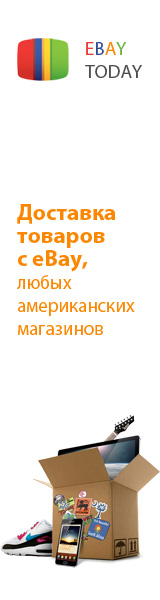|
РУБРИКИ |
Происхождений цивилизации |
РЕКЛАМА |
||
|
Происхождений цивилизациимежобщинная торговля (в том числе обслуживаемая протошумерским предметным письмом) и умственный труд (администрирование, культ). Появление производящего хозяйства в специальной литературе обычно рассматривается как результат удачных целенаправленных изобретений. На наш взгляд, такой подход к проблеме не выдерживает критики. Во–первых, люди первобытного общества не обладали навыками индивидуального самосознания, а потому экстраполяция на их жизнедеятельность эвристических способностей современного человека неправомерна. Во–вторых, и это очень важно, зачатки производящего хозяйства встречаются и в первобытных обществах потребляющей экономики, однако не получают в этих обществах какого-либо институциализированного распространения. Так, элементы примитивнейшей агрокультуры имеются у австралийских аборигенов[123], а столь же примитивнейшие начала животноводства встречаются у южноамериканских индейцев; кроме того, некоторые признаки доместикации лошади отмечены в верхнем палеолите Франции[124]. Казалось бы, “изобретение”начал сельского хозяйства у австралийских аборигенов и индейцев должно было произвести переворот в их экономике. Однако ничего подобного не произошло (более того, австралийские аборигены выражали стойкое нежелание переходить к производящему хозяйству). Этот парадокс мы объясняем тем обстоятельством, что усвоение производящего хозяйства как акт усложнения технологии совершенно не соответствовало низкому демографическому состоянию сообществ австралийских и южноамериканских аборигенов (а также и верхнепалеолитических сообществ). Соответственно, экспансию производящего хозяйства в неолите мы также не считаем целенаправленным изобретением. Строго говоря, увеличение удельного веса земледелия и скотоводства в хозяйстве неолитических общин надо рассматривать как следствие популяционного взрыва в среде доместицированных животных и растений. Этот популяционный взрыв необходимо связать с ближневосточным мезолит–неолитическим демографическим взрывом. При переходе от финального мезолита к докерамическому неолиту Леванта в ближневосточных общинах имел место десятикратный рост численности населения (например, в Абу Хурейра, Сирия, поздний натуф, 12800 календарных лет назад, или 11150 14С, 250±50 человек, специализированное охотничье-собирательское хозяйство; докерамический неолит В, 10740–9130 календарных лет назад, или 9350–7950 14С, 2500±500 человек, специализированная охота, начальное сельское хозяйство). В раннем керамическом неолите протогорода Чатал–Хююк (Конья, Турция, 9420–8440 календарных лет назад, или 8200–7350 14С, ирригационное сельское хозяйство, охота) население составляло уже 4000±2000 человек (Чатал–Хююк является демографическим лидером всех доцивилизованных обществ). По–видимому, по мере своего демографического роста ранненеолитический социум был вынужден пропорционально дополнять естественные источники пищи искусственными источниками, связанными с доместицированными организмами, что вызвало в их среде популяционный взрыв, пропорциональный неолитическому демографическому взрыву. Таким образом сформировалась сложная технология производящего хозяйства, закономерно соответствующая демографическому состоянию практикующего ее социума. Пропорционально усложнению технологии производящего общества росла общая эффективность добычи этим обществом пищи. В результате у его членов высвобождалось активное время, которое, в соответствии с демографическими нуждами усложнения технологии, было использовано для развития непищевых сфер производства и распределения: ремесла и межобщинного обмена, о которых уже упоминалось. Прогрессировала и сфера вторичных общественных структур. В неолитическом социуме, таким образом, созрели предпосылки общественного разделения труда. Однако признаков существования институциализированных профессиональных групп в неолите не найдено (если не считать служителей культа Чатал–Хююка и западноевропейского мегалитического общества, появление которых указывает начало действительного разделения труда, однако нет свидетельств, что эти ранние жрецы осуществляли хозяйственные социально–регулятивные функции, и нет свидетельств соответствующего общественного разделения труда). Таким образом, неолитическое разделение труда еще не вышло за пределы индивидуального, которое свойственно первобытному обществу. Возникновение профессиональных групп и общественного разделения труда как очередного усложнения общественной технологии мы связываем с достижением ближневосточными обществами “демографического рубикона”, т.е. примерно десятитысячной численности. Мы объясняем это следующим образом. Население первобытных общин не превышало 5000 человек, а обычно было меньше в неолите и гораздо меньше в мезолите и палеолите (от 35±15 у человека прямоходящего до 250±50 у позднемезолитического человека и 2500±500 у неолитического). Малочисленный социум не подчиняется действию статистического закона больших чисел, а потому поведение его членов, если отвлечься от социальных структур, было случайным и непредсказуемым. Чтобы преодолеть этот дезинтегративный недостаток социум освоил однородную первобытную общественную структуру, подчиняющую поведение его членов общим стереотипным нормам. Такое общество не может допустить своей дифференциации на профессиональные группы, заведомо не подчиняющиеся общесоциальным стереотипам поведения, поскольку каждая профессиональная группа всегда имеет свой сложный специфический стереотип. Когда социум достигает примерно десятитысячной численности населения, случайное поведение его членов начинает подчиняться действию закона больших чисел и становится практически полностью предсказуемым. Для единообразной регуляции жизнедеятельности такого общества однородная структура становится не нужна, и десятитысячный социум может разделиться на профессиональные группы без ущерба для общей стереотипности своего поведения. Таким образом, тенденция к профессиональной специализации общества производящей экономики, появившаяся в неолите, в социумах достигших “демографического рубикона” получает возможность реализации на уровне общественного разделения труда. Материальной движущей силой этого процесса является то обстоятельство, что профессионально специализированное общество становится более эффективным, с точки зрения своего общественного производства. Упомянутые количественно–статистические соображения, конечно, не следует абсолютизировать, однако фактом остается то, что численность цивилизованных сообществ разделенного труда обычно колеблется возле “демографического рубикона” и может даже значительно превосходить его (Мохенджо–Даре, Пакистан, 4710–4250 календарных лет назад, или 4105±65 — 3705±115 по радиокарбону, население — 40000 человек). Возможно, начала общественного разделения труда имели место уже в Чатал–Хююке, однако полностью там раскопан лишь “квартал жрецов”, так что вопрос остается открытым. Можно думать, что важное усложнение технологии, связанное с общественным разделением труда, было обусловлено, таким образом, демографическим ростом социума и отвечало постулируемой нами демографо–технологической зависимости. Социум общественно–разделенного труда, в отличие от первобытного общества, уже не являлся однородным образованием и был дифференцирован на профессиональные группы, обладающие собственным производственным и поведенческим стереотипом со своими экономическими интересами. Поведение профессиональных групп было разнородным, и, следовательно, их функционирование угрожало целостности социума. Процесс разделения труда, по определению, является центробежными и противоречащим интегративным нуждам социума. В этих условиях можно было бы ожидать, что общество разделенного труда выработает особые средства интеграции своих профессиональных групп. Таким средством, как нам кажется, стала цивилизация, связанная с городским образом жизни. На наш взгляд (гл. II, 2), цивилизацию (город) можно определить как предметную форму структуры общества разделенного труда. Она жестко зафиксирована в культовых, административных, производственных, жилых и фортификационных городских сооружениях и дополнена тесно связанными с городом сельскими поселениями. Город и его окружение образуют инфра– и метаструктуру цивилизации. Эта структура, благодаря своей предметности, является целостной и тем самым интегрирует органично связанные с элементами этой структуры подразделения труда. Таким образом, выявляется важная социальная функция городской цивилизации, выходящая далеко за пределы обыденных представлений о жилищном, административном, производственном и фортификационном назначении города. То обстоятельство, что именно город выступил социально–интегративным фактором общества разделенного труда, не является случайным. Общественная дифференциация была обусловлена самодвижением средств коллективного производительного потребления, т.е. предметными формами технологии, усложняющейся под демографическим влиянием личного элемента производительных сил. Следовательно, способ нейтрализации общественной дифференциации должен был быть связан также со средствами коллективного, но непроизводительного потребления, а ведущей предметной формой последних являются жилище, культовые, административные и фортификационные сооружения, упорядоченная совокупность которых образует поселение городского типа. Обитание в городских условиях имело важные последствия для организации населяющего город общества. Как отмечалось, кровно–родственные отношения первобытного общества подчинялись закону Дж.Крука и варьировали в зависимости от биопродуктивности среды (от эндогамной матрилинейности в высокобиопродуктивных регионах до иерархической патрилинейности в низкобиопродуктивных). Высшие приматы, подчиняющиеся закону Дж.Крука, воспринимают всякие ограниченные условия обитания (например, зоопарк) как эквивалентные низкобиопродуктивному биотопу и соответствующим образом структурируют свои сообщества (иерархически–патрилинейно). Есть все основания считать, что обитание в городских условиях недавно еще первобытные люди воспринимали точно так же. Это объясняет универсальное распространение в цивилизованных обществах патриархальной семьи и патриархально–иерархической организации сообщества. В свете этих наблюдений неверным кажется представление о том, что человек изобрел иерархическую организацию сообщества, чтобы координировать жизнедеятельность подразделений труда. Патриархальная иерархия действительно послужила основой структурных отношений подразделений труда, однако она имела независимое от разделения труда происхождение. Эта картина несколько сложнее традиционных представлений о генезисе цивилизованной социальной организации. Пережитки эндогамной матрилинейности в древнеегипетском, эламском и хаттском обществах показывают, что создатели соответствующих, в целом иерархически–патриархальных цивилизаций, на предцивилизованной стадии подчинялись закону Дж.Крука и, обитая в субтропических условиях со значительной биопродуктивностью, имели, вероятно, матрилинейную организацию сообществ. Генезис самых ранних цивилизаций был приурочен к речным долинам субтропического пояса Ближнего и Среднего Востока (Египет, Месопотамия, Элам, долина Инда). В этих регионах имелись средние уровни биопродуктивности и круговорота веществ в природе, что было оптимально для наиболее полного развития раннего сельского хозяйства. В тропическом поясе биопродуктивность выше, но одновременно выше и круговорот веществ в природе. В силу последнего обстоятельства высокобиопродуктивный регион тропического леса совершенно не оптимален для сельского хозяйства примитивной технологии. В умеренном поясе картина прямо противоположная: круговорот веществ в природе там низок (что выгодно для сельского хозяйства), но одновременно низка и биопродуктивность среды, что для раннего сельского хозяйства не оптимально. Поэтому география генезиса первых сельскохозяйственных цивилизаций представляется вполне объяснимой. Те же соображения позволяют объяснить, почему центры генезиса ранних цивилизаций совершенно не совпадают с первыми сельскохозяйственными центрами (Левант, Загрос и близкие регионы), где имелись предки доместицируемых организмов, но экологические условия были не самыми оптимальными для дальнейшего развития сельского хозяйства (последнее было принесено в Египет из Леванта, в долину Инда из Элама, в Элам и Месопотамию из Леванта или Загроса; по лингвистическим данным, эламцы были выходцами из Леванта, но их миграция произошла еще в безсельскохозяйственном мезолите; генезис месопотамских шумеров неизвестен). Динамика ранних цивилизаций (гл. II, 3) предполагает, что системообразующим элементом первых городов должны были стать наиболее выраженные средства коллективного непроизводительного потребления, максимально коллективные и минимально производительные. В стандартной городской структуре этим требованиям отвечают лишь два элемента: культовые и фортификационные сооружения. Поэтому формирование городов вокруг подобных элементов представляется закономерным. В частности, системообразующим элементом древнейших шумерских поселений были храмы (Эреду), а аналогичным элементом микенских поселений служили фортифицированные дворцы (Микены, Тиринф). Примеры можно продолжить. Очень своеобразная форма становящейся, но так и не ставшей цивилизации связана с мегалистической культурой Западной Европы. В Англии центрами так называемых ячеек расселения стали мегалитические святилища–обсерватории и связанные с ними поселения жрецов–астрономов. Экологические условия Западной Европы не благоприятствовали эффективному развитию сельского хозяйства и высоким концентрациям населения, необходимым для общественного разделения труда. Если абстрагироваться от этого препятствия, можно представить, как элита жрецов–астрономов, освоившая интеграцию бесструктурного первобытного общества, с переходом его на стадию разделенного труда и городского образа жизни берет на себя функцию социального управления и тем самым завершает формирование мегалитической цивилизации; однако ничего этого в реальности не произошло. Возможно, что аналогичный процесс имел место в Шумере. Эпоха становления цивилизации, по–видимому, должна датироваться от первых протогородов, движущихся к обществу разделенного труда (Чатал–Хююк, 8440), до первых появлений социальных структур, унаследованных классическими ранними цивилизациями (нижнеегипетская корона, изображенная на сосуде амратской эпохи Нагада I, 6600–6400 или 5744±300 — 5577±300 14С от наших дней). Духовное развитие ранней цивилизации (гл. III) полностью сохранило наследие первобытной эпохи. Архетипы первобытного сознания в ряде случаев были трансформированы в дочерние формы, которые существовали параллельно с предковыми архетипами. Кроме того, были выработаны новые формы, неизвестные в первобытности. Это обогащение вторичных общественных структур обусловливалось объективными потребностями цивилизации, которая, располагая более производительной экономикой, предоставляла членам цивилизованного общества больше свободного времени, подлежащего социализации. Особую задачу представляла духовная интеграция представителей разных профессиональных групп средствами единого общественного сознания. Специфика филиации форм цивилизованного сознания состояла в том, что их общие корни, восходя к первобытности, хронологически лежали за пределами цивилизованного общества. Общность таких духовных форм достигалась неимманентным им способом: в частности, включением их в систему дисциплин, преподаваемых в общеобразовательной школе для деятелей умственного труда (шумеро–аккадская э–дуба), и в корпус письменных памятников, используемых при таком преподавании. Завершающая стадия формирования раннецивилизованной идеологии наступает с открытием имманентных способов интеграции ее наиболее продвинутых форм, представленных науками: здесь способ интеграции знаний основан на открытых философией вторичных сущностях уровня теоретического и философского обобщения. Логику развития идеологических форм цивилизованного общества невозможно вывести из их внутреннего содержания (классический идеалистический метод), поскольку эти духовные формы объективно имели гетерогенное происхождение. Трудно также вывести логику развития этих духовных форм и из их прикладного назначения (прямолинейный материалистический метод), поскольку цивилизация располагала идеологическими формами как прагматического, так и явно непрагматического назначения. На наш взгляд, при объяснении развития раннецивилизованной идеологии надо учитывать основную функцию феноменов цивилизации: они все либо служили целям социальной интеграции, либо были ее точками приложения. Такой подход вытекает из вышеизложенного социально–философского понятия цивилизации, само появление которой было вызвано нуждами социальной интеграции. Функция же социальной интеграции носит универсальный характер и способна пронизывать все сферы общественной жизни, не только материальной, но и духовной. Цивилизация унаследовала от первобытности язык, религиозный ритуал, систему нравственных норм поведения, пережитки магии, тотемизма и фетишизма, мифологию, погребальный культ, изобразительное искусство, представления о духовных существах (анимизм), музыкальное творчество. Эти идеологические архетипы отчасти были гетерогенны уже в первобытности, а частью состояли в родстве, прослеживаемом лишь в первобытную эпоху. Их общность состояла в социально-интегративной функции, а также в общеупотребительности. Цивилизация добавила к этим архетипам ряд новых. От религиозного ритуала произошла культовая мистерия, а от нее в античную эпоху — театр. Светские нормативы поведения (нравственность) послужили источником архетипов права и политики. Языковые формы общения дали начало ряду жанров литературы. Наряду с этими архетипами в эпоху цивилизации возник ряд идеологических новаций светского характера, связанный с деятельностью подразделения умственного труда и не рассчитанный на общеупотребительность. Генезис этих новаций, таким образом, относится к собственно цивилизационной проблематике. Данные новации имели некоторые доцивилизованные предпосылки и поэтому образовали в эпоху цивилизации гетерогенную группу. Так, индивидуальное самосознание имело предпосылкой общественное сознание первобытности, письменность (в шумерском варианте) — протошумерское предметное письмо неолита. То же относится и к гетерогенной системе эмпирических наук, имеющих определенные предпосылки еще в палеолитической действительности (математика — арифметический счет, астрономия — лунный календарь, география — топографическая карта из Межирича, филология — устная речь, правовая наука — светские нормы поведения [нравственность], история — мифология, медицина — знахарство, зоология — охота, ботаника — собирательство, минералогия — технология камня и т.п.). Эти предпосылки лишь указывают на древность предметных областей наук, но мало что говорят об их генезисе. Происхождение индивидуального самосознания мы связываем с социально–интегративной функцией деятелей умственного труда, которые, освоив навыки управления жизнедеятельностью других подразделений труда и распространив их на себя самих, приобрели способность к самоконтролю, из которой постепенно развивались феномены самосознания. Таким образом, самосознание оказалось социально–регулятивной функцией, интериоризированной отдельной личностью. Поскольку социально-регулятивная функция является частным случаем социально–интегративной, природа самосознания, несмотря на его индивидуальность, носит социальный характер. Предметной формой самосознания стало письмо. Запись внутренней речи носителя индивидуального самосознания может отчуждаться от него и становиться достоянием других людей, т.е. служить внешним средством социальной интеграции для индивидуального самосознания (точнее, для его носителя). Генезис письменности обычно эмпирически выводится из прикладных нужд хозяйственного учета. На эту проблему можно взглянуть и с другой стороны. Деятели умственного труда освоили индивидуальное самосознание и его предметную письменную форму в сфере социально–регулятивной деятельности хозяйственно–распределительного свойства. Естественно, что первым содержанием самосознания и его предметной письменной формы стали хозяйственно-распределительные отношения. Однако в Египте в эпоху нулевой династии (3390–3160/2700–2500 до н.э. 14С) одновременно с хозяйственными документами появляются надписи военно–политического характера (следовательно, и социально–регулятивного), которые трудно вывести из нужд хозяйственного учета. По–видимому, разумнее считать, что письменность возникла как предметная форма самого раннего индивидуального самосознания, а его социально–регулятивная природа обусловила содержание первых письменных памятников (хозяйственных, военно–политических). Генезис ранних форм исторического сознания, представленного очень скромной историографией и эпосом, является частным случаем генезиса социальной связи в истории. Последняя состоит в использовании социумом своего прошлого менее дифференцированного состояния для интеграции своего нового более дифференцированного состояния. Проще сказать, социум использует старые средства самоорганизации для интеграции своего нового состояния. Например, древняя демографо–технологическая зависимость существовала на протяжении всей социальной истории. То же относится ко вторичным структурам общества. Цивилизация использовала царскую власть, появившуюся в городе-государстве, номе и т.п., для интеграции межрегиональных царств и т.д. (см. гл. III, 2). В идеологической сфере люди стали использовать средства отражения прежнего менее дифференцированного социума для интеграции представлений о его новом дифференцированном состоянии (основное неявное содержание историографии с ее отождествлением старой и новой социальной организации). Складывается, таким образом, впечатление, что историческое сознание выполняло в условиях ранней цивилизации социально–интегративную роль, новая фаза которой связана с более поздней философией истории. Генезис первых эмпирических наук мы связываем со способностью социума стихийно открывать и предсказывать сущности (гл. III, 3). Цивилизованное общество подчинялось статистическому закону больших чисел, действие которого в десятитысячной совокупности объектов практически не отличается от действия динамической закономерности. Десятитысячный социум, наблюдая какую–нибудь предметную область, получал результаты, характер которых также подчинялся динамической закономерности. В результатах таким образом выявились устойчиво повторяющиеся черты (сущности), появление которых к тому же было предсказуемым. Крупный социум уподоблялся своего рода “живому компьютеру”. Конечно, весь цивилизованный социум не занимался научными наблюдениями, однако его подразделение умственного труда, поколения которого были письменно связаны между собой, превращалось в своего рода диахронический микросоциум, исторический опыт которого подчинялся закону больших чисел. Это позволило шумеро–аккадским и египетским деятелям умственного труда сделать ряд эмпирических обобщений (в основном математического и грамматического свойства), которые отвечали первичным эмпирическим сущностям. Знания такого рода глубины еще не создавали основы для обобщения предметных областей частных наук. Поэтому раннецивилизованная система наук шумеро–аккадского типа объединялась внешними средствами: системой преподавания в общеобразовательной школе (э–дуба). Имманентно связанной системы знаний при этом не возникло (научные дисциплины существовали сами по себе и никаких связей их предметных областей не выявилось). Между тем цивилизованный социум как социально–интегративный феномен во всем стремился к возможно полной интеграции своих материальных и духовных форм, так что открытие имманентных связей наук было вопросом времени, и оно было сделано на периферии ближневосточного мира в греческой Малой Азии (Ионийская философия, а также имеющие ионийское происхождение пифагореизм и элейская школа). Первые греческие философы (особенно Фалес и Пифагор) при построении своих систем имели исходным материалом, наряду с обыденным опытом и мифо–эпической традицией, научные представления Египта (Фалес, Пифагор) и Месопотамии (Пифагор). Тем самым в исходные данные их обобщений попали первичные эмпирические зависимости (астрономические у Фалеса, математические у Пифагора). Результат обобщения подобного материала автоматически приобрел характер сущности вторичного теоретического (и собственно философского) свойства, а открытие таких сущностей, способных объединять предметные области разных наук, послужило основой для открытия дедуктивного метода выведения предметных областей частных наук из общего начала (система Аристотеля). Тем самым был открыт принцип объединения наук имманентными им средствами. Возможность такой системы наук, равно как и философии вообще, была следствием реализации интегративной функции, универсально свойственной социуму, в сфере научного знания. Речь, конечно, не идет о механическом выведении предметных областей частных наук из некой единой предметной области (например, отражаемой категорией материи или ее эквивалентов) или законов частных наук из единого закона типа логоса Гераклита (хотя и такой подход, вероятно, правомерен). Важнее было открытие единой природы научного знания, вытекающей из единства методов отдельных наук (неявно этот принцип предполагался в греческой философии, например, у Гераклита). В этом отношении греческая научная идея была шагом вперед по сравнению с шумеро-аккадским состоянием. Рассмотренная нами социально–философская проблематика предыстории и истории становления цивилизации показывает возможность единообразного объяснения ее генезиса и природы. Демографический рост социума сопровождался его поступательной дифференциацией и нахождением новых средств общественной интеграции. Ранняя цивилизация выступила закономерным этапом этого процесса, что можно рассматривать как объяснение причин ее генезиса. Приложение ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО Наши представления о духовном мире палеолитического человека в значительной степени основываются на истолковании созданных им памятников изобразительного искусства. Долгое время его интерпретация была бессистемной. Сталкиваясь с палеолитическими изображениями тучных женщин, ученые усматривали в них свидетельства культа плодородия. Изображения животных связывались с тотемизмом, а стреловидные изображения на их корпусах — с магией[125]. Позже выяснилось (А.Леруа–Гуран), что признаки “плодородия” у женских фигур обусловлены каноном художественного стиля, что анималистические сюжеты палеолитического искусства отражали очень ограниченный стабильный список животных, который, по определению, не мог иметь отношения к тотемизму, и что стреловидные изображения являются элементом очень четкой знаковой системы, не связанной с магией. Революцию в интерпретации палеолитического искусства произвел А.Леруа–Гуран[126]. Исследуя точно датированные памятники малых форм (мобильное искусство) и некоторые археологически датированные монументальные памятники (наскальное искусство), А.Леруа–Гуран обнаружил, что художественные каноны различных эпох заметно различались, что позволило обобщить характерные художественные приемы выражения сюжетов изобразительного искусства в представления о четырех верхнепалеолитических стилях, классически представленных во франко–кантабрийском регионе (Юго–Западная Франция и Северо–Западная Испания), но фактически распространенных в верхнепалеолитической Евразии гораздо шире (хронологию франко–кантабрийских стилей см. в табл. 3). В древнейшем стиле I фигуры животных предельно схематичны и с трудом поддаются отождествлению. Часто, но далеко не всегда, передавались одни головы. Изобразительный канон близок современному примитивизму: округлая, эллиптическая или более угловатая продолговатая фигура, символизирующая голову, изредка дополняла геометрически переданное туловище, непропорционально большое по сравнению с головой и снабженное линейными конечностями. Стиль I является преимущественно геометрическим, т.е. символически передающим свои денотаты. Немногочисленные детали (глаз, рот, уши) передавались также геометрически и не отражали точный облик соответствующих деталей реальных животных. Искусство стиля I было скорее понятийным, символическим, чем изобразительным, однако его дальнейшая судьба показывает, что этот символизм являлся следствием низкого художественного мастерства, характерного для древнейшей стадии искусства. В следующем стиле II изобразительный канон существенно меняется. Основу силуэта животного образует извилистая шейно–спинная линия, обычно легко ассоциирующаяся с силуэтом изображаемого животного. Прочие части тела подвешиваются к шейно–спинной линии, что предопределяет некоторые характерные способы их передачи: “утиная голова”, сильно провисшее брюхо и незаконченные конечности лошади, подковообразная линия брюха–конечностей мамонта и т.п. Детали (глаз, ухо, хвост, шерсть на брюхе мамонта, на загривке бизона, рога) редки и переданы очень обобщенно. Примитивность изображений напоминает еще стиль I, однако говорить о геометрическом символизме уже нельзя: силуэты животных обычно ясно отличаются друг от друга и напоминают общие контуры денотатов (изображаемых объектов). Построение образа на основе шейно-спинной линии приводит к тому, что, как и в стиле I, корпуса животных оказываются непропорционально велики по сравнению с головами. В женских изображениях этот художественный принцип приводит к тому, что женский торс передается очень массивным по сравнению с головой и конечностями. Отсюда так называемые признаки плодородия в женских фигурах и признаки беременности в фигурах животных. Как видим, эти приметы культа плодородия имеют сугубо стилистическое происхождение и не отражают в действительности никаких культовых представлений. В стиле I и II преобладающей техникой исполнения является гравюра (иногда раскрашенная), хотя встречаются красочные изображения знаков (руки, абстрактные символы) и изредка фигур животных. В стиле III пропорции животных и женских фигур отвечают канону стиля II, однако построение фигуры на основе шейно–спинной линии перестает быть господствующим принципом. Все части тела животного передаются равноценно и по отдельности в общем отражают анатомические реалии, но общий вид животного в стиле III древнем очень непропорционален: огромные корпуса снабжаются мелкими головами и конечностями. В стиле III позднем анатомические пропорции начинают приближаться к реальным. Детали (глаз, уши, рога, хвост, копыта) встречаются часто. Обобщенный синтетический образ стиля II начинает трансформацию к аналитизму, и взятые по отдельности корпуса, головы и конечности животных уже гораздо лучше передают натуру, но их конгломерат по–прежнему искажает анатомию денотата. В стиле IV древнем фигуры животных приобретают реалистические пропорции, а детали становятся многочисленны и точны, хотя имеются еще пережитки прежних стилей (например, контур брюшной области в виде М, идущий еще из стиля II, встречающаяся массивность крупов животных). Общая тенденция к реалистической передаче натуры распространилась и на антропоморфные изображения. Мужчины во всех стилях изображались обычно схематично, хотя имелись исключения в Лоссель (стиль II) и в гроте де Ла Марш (Люссак–ле–Шато, Вьенна, Франция, мадлен III а, стиль IV древний). Женские фигуры стиля IV становятся грацильными и лишенными, в отличие от предшествующих стилей, признаков “плодородия”, хотя и здесь имеются исключения: в Ла Марш женские фигуры массивны, а женский барельеф из абри Пато (Лез Эйзи–де–Тейяк, Дордонь, Франция, слой III, перигор VI, 23010±170, стиль II) грацилен. Схематичные женские фигуры стиля IV послужили источником для знаков в виде клавиформ (музыкальный ключ), весьма характерных для этого периода. Стиль IV поздний показывает сложную картину эволюции художественного творчества. Сперва тенденции стиля IV древнего приводят к фотографическому реализму (Ла Мери), а затем в связи с упадком палеолитического искусства наступает схематизация образов (Ла Рок, начало процесса отмечено в Аддаура I, где натуралистические изображения сосуществуют со схематическими). В количественном отношении вершина франко–кантабрийского искусства была достигнута в мадлене IV, но в стилистическом качественном отношении расцвет пришелся на мадлен V, сменившись стремительным закатом в мадлене VI. Концепция названных художественных стилей привела к важным семантическим открытиям в монументальном искусстве. До А.Леруа–Гурана наскальные пещерные изображения рассматривались как свидетельства различных эпох. Их датировка основывалась главным образом на археологическом методе суперпозиций (взаимоналоженных изображений). Если одна фигура покрывала другую, констатировалась их разновременность. А.Брейль создал целую концепцию хронологии наскального искусства, основывающуюся на принципе суперпозиции, на особенностях техники и очень мало на датированных мобильных аналогиях. Поскольку в суперпозиции практически всегда (за весьма редкими исключениями, например, в Гаргас I) оказывались фигуры одного и того же стиля, стало ясно, что принцип суперпозиции не может использоваться для крупномасштабной общей периодизации наскального искусства. Другой вывод состоял в том, что фигуры одного стиля составляли в пещерных святилищах целостные ансамбли, структура которых может многое сказать о представлениях древних художников. Структура идеального святилища[127] такова. В его центре на главном панно находится основная композиция, состоящая из лошади (“первое животное”), бизона или быка (“второе животное”) и “третьего животного” (горный козел, благородный олень, лань, мамонт, северный олень). У входа чаще всего присутствует “третье животное” (обычно благородный олень), которое встречается и в глубине. В глубине обычно “четвертое животное” (лев, медведь, носорог, а также более редкие млекопитающие, рыбы, птицы) и антропоморфы. Иногда эта структура стягивается в одно обширное панно (Альтамира–3, Ла Пенья–де–Кандамо–3, Руффиньяк и др.), на котором диспозиция животных сохраняется: в центре животные I, II, III, а на периферии — IV и антропоморфы. Изредка животные класса IV выступают в роли “третьего животного”: лев (Ле Пеш–Мерль–1), мегацерос (Рукадур). Конечно, схема идеального святилища реализуется в зависимости от топографии пещер, однако ее существование доказывается статистикой взаимного расположения животных. По всему пещерному святилищу встречаются также различные знаки, для которых А.Леруя–Гуран разработал свои закономерности распределения. Их принятие сталкивается с трудностями, о которых речь пойдет дальше. А.Леруа–Гуран проанализировал статистику 63 украшенных гротов из 110 известных в его время (1964 г.), а также большое число мобильных памятников[128], из которой следовала определенная частотная иерархия сюжетов, отраженная в понятиях животных I–IV. Мы произвели статистическую обработку 222 монументальных памятников франко–кантабрийских стилей из Франции, Испании, Италии и России (Капова пещера), результаты которой приведены в табл. 1 (перечень и хронологию памятников см. в табл. 3). Они полностью подтверждают основные положения А.Леруа-Гурана, лишь несколько уточняя их количественно и содержательно. Расчеты, сделанные нами, относят количество памятников, где встречается тот или иной сюжет, к общему количеству учтенных памятников. Первый столбец табл. 1 отражает верхнепалеолитическое монументальное искусство франко–кантабрийских стилей, а второй — мобильное искусство древнего и среднего палеолита, перечень и хронология памятников которого (46 примеров) приведены в табл. 2. Мобильные памятники, по А.Леруа–Гурану[129], образовывали портативную параллель монументальным святилищам. Однако в поративных святилищах трудно установить характер первоначального ансамбля и степень фрагментарности дошедшего материала, который иногда может быть огромным (например, более 800 гравированных пластинок в гроте д'Анлен, локализация и возраст как у Ле Труа–Фрер–2, см. табл. 3). Поэтому монументальные святилища всегда более доказательны. Франко-кантабрийские бестиарии (наборы животных) состояли из 39 определенных видов млекопитающих, птиц и рыб, а также из неопределенных змей (собственно, лучше говорить о 37 видах, поскольку № 28–29, барсук и бобр вызывают сильнейшие сомнения). Основу этих бестиариев составляли животные с частотами 66,2–9,5% (лошадь, бизон, бык, горный козел, благородный олень, лань, мамонт, северный олень, пещерный лев, медведь, шерстистый носорог). Среди них лидирует лошадь (66,2%) и бизон с быком (совместная частота 66,2%), что полностью подтверждает квалификацию их А.Леруа–Гураном как “первого и второго животного” основной композиции. Животные с частотами 44,1–16,7% (горный козел, благородный олень, лань, мамонт, северный олень) являются обычным “третьим животным” основной триады, а животные с частотами 17,1–9,5% — стандартными персонажами глубин святилищ и периферий основного панно. Таким образом, основу франко–кантабрийского бестиария составляли животные, выступающие в ансамблях монументального искусства в четырех статистико-топографических ролях. Следует добавить, что франко–кантабрийское искусство, просуществовавшее 20000 лет, сохраняло на всем их протяжении абсолютное статистико–топографическое однообразие. Правда, святилища стиля I полностью разрушены, однако фрагменты их бестиариев показывают полное тождество бестиариям стиля II, в котором основная композиция в законченном виде появляется начиная с Пер–нон–Пер. Самая поздняя основная композиция отмечена в Дриасе III (Аддаура I). Следовательно, в течение 20000 лет западноевропейские художники изображали один и тот же ведущий сюжет: основную композицию, состоящую из лошади, бизона (или быка) и горного козла (или других животных класса III). На периферии этой композиции размещались животные класса IV и антропоморфы. Эти объективные статистико–топографические факты позволили А.Леруа–Гурану сделать вывод о том, что единственной идеологической формой, которая могла бы отразиться в столь стабильной иконографической системе, могла быть только мифология[130]. Франко–кантабрийское искусство, таким образом, было религиозным по основному жанру. Конкретное содержание франко–кантабрийской мифологии остается загадкой. Основываясь на серии фигур “женщин-бизонов” из Ле Пеш–Мерль-2 и на том факте, что одна из “Венер” Лоссель держала в руках бизоний рог, А.Леруа–Гуран предположил, что “второе животное” (бизон) было символом женского начала, а все остальные — мужского. Это предположение противоречит фактам. Мужчины–бизоны встречаются чаще (Ле Габийю–1, Ле Габийю–2, Ла Пасьега С–1, Ле Труа–Фрер–2). Лоссельская “Венера”, держащая рог бизона с 13 параллельными насечками, проще всего объясняется как символ лунного месяца с количественным пояснением к нему (см. далее) и обнаруживает ближайшую аналогию с клавиформой, сопровождаемой серией пунктуаций (Нио и т.п.). Вообще принцип интерпретации топографических классов животных при помощи понятия пола плохо подкрепляется реалиями. Так, женщины–птицы (Альтамира–1, Ле ПешМерль–2) соединяют в себе женское начало с “мужским” (птицы в системе Леруа–Гурана относятся к мужскому классу). Бизоны, как отмечалось, могут быть как “мужскими”, так и “женскими” животными. “Мужскими” животными можно признать северного оленя и льва (мужчина–северный олень из Ле Труа–Фрер–2 и мужчина–лев из Ле Рок–о–Сорсье). В свете сказанного разумнее воздержаться от сексуальной интерпретации классов франко–кантабрийских бестиариев. Из статистики анималистических сюжетов франко-кантабрийского бестиария вытекает только, что лошадь символизировала верховное “божество”, бизон–бык — “божество” второго порядка, а “третье и четвертое животные” — соотносились с божествами соответственно третьего и четвертого порядка. По ряду признаков, о которых речь пойдет дальше, франко–кантабрийская мифология отражала некую общечеловеческую мифологическую идеологию, и представляется перспективным поиск ее аналогий среди основных мифологем Старого Света, древнейшие из которых связывались с мифами о Солнце, Земле и Небе. В этой связи представляет интерес интерпретация В.Е.Ларичева[131]. На верхнепалеолитическом поселении Малая Сыя (Хакасия, Красноярск, Россия, 34500±450, 33060±450, 33060±300 14С) среди произведений мобильного искусства В.Е.Ларичев открыл изображения композиций мамонт–бизон и мамонт–черепаха. Мамонт, стоящий на черепахе, по этнографическим параллелям интерпретировался В.Е.Ларичевым как символ Неба, а черепаха (и замещающий ее в похожей композиции бизон) как символ Земли. Композиция бизон–мамонт (№ 9 в списке композиций Леруа–Гурана) представляет собой неполную триаду и, по нашим подсчетам, встречается в 10 гротах, в шести из которых она является основной (Ле Шваль (Арси), Юшар, Капова, Ложери-От, Улан, Сен-Фрон). Эта композиция является частным случаем соединения “второго-третьего животных” без лошади, и такое соединение имеется в 26 гротах. Если предположить, что “второе животное” символизировало Землю, а “третье” — Небо, то франко–кантабрийская |
|
© 2000 |
|