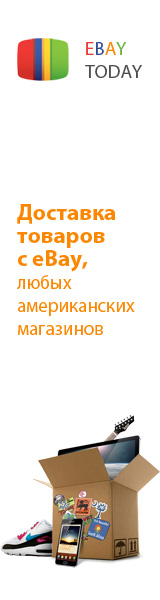|
РУБРИКИ |
Происхождений цивилизации |
РЕКЛАМА |
||
|
Происхождений цивилизацииПредметные формы культа могут быть портативными (термин А.Леруа–Гурана), рассеянным в социуме и мало пригодными для формообразования цивилизованной предметной структуры, в то время как фортификация всегда стремится к монументальности, а монументальность как основа стабильности сооружения хорошо отвечает социально–интегративным задачам. Древнейшее фортификационное сооружение известно из докерамического неолита А Иерихона (Иордания, 11830–10010/10300–8720 14С), где имелась высокая (7,75 м) каменная башня, фланкированная высокой (5,75 м) каменной стеной. Укрепление было связано с полузарытыми в землю круглыми домами из сырцового кирпича, обычно однокомнатными. Этот ансамбль, конечно, нельзя считать цивилизацией, поскольку никаких признаков общественного разделения труда там не представлено. Однако поселение такого типа могло бы стать со временем эмбрионом цивилизации. В начале голоцена в Леванте шли демографические процессы, обусловившие распространение производящего хозяйства в Африку (см. гл. II, 1). Демографический рост мог породить конфликты популяций и вызвать нужду в укреплениях. Из ранних цивилизаций, связанных с фортификацией, помимо упоминавшейся микенской, можно назвать ханаанейскую цивилизацию Иордании (например, Иерихон) и Израиля (например, Мегиддо), существовавшую 4900–4600 лет назад и еще 4600–4250 после вторжения на ее территорию носителей культуры Хирбет Керак. Неолитические и халколитические поселения во многих случаях были лишены фортификации, и складывается впечатление, что ее возникновение в конкретных случаях было обусловлено передвижением агрессивного населения, вызванным демографическими, экологическими и другими причинами. В эпоху ранних цивилизаций распространение фортификации становится значительным, что может объясняться причинами военно-политического характера. Цивилизация, огражденная от вторжения извне в силу своего географического положения, могла обходиться без фортификационных сооружений. Такой была минойская цивилизация Крита, которая обходилась без укреплений даже в эпоху своей внешнеполитической активности (минойская талассократия, т.е. власть над морем, 1700–1400 до н.э.). Однако не вызывает сомнений то обстоятельство, что фортификация, помимо своего стратегического назначения, играла важную социально–интегративную роль. Для городского общества, находящегося под угрозой потенциальной агрессии, городские укрепления выступали мощным консолидирующим фактором. Из этого, конечно, не следует, что цивилизованное общество в интересах своей интеграции должно было стихийно искать внешнего врага, чтобы в результате обзавестись фортификацией. Хотя, если подойти к вопросу не предвзято, единственным объективным достижением, например, египетских фараонов нулевой династии было удовлетворение интегративных потребностей своего социального организма, и существуют большие сомнения в том, что это достижение отвечало интересам людей, взятых по отдельности. В результате создания общеегипетского национального государства (самый древний случай в истории) самобытное развитие отдельных регионов страны было искусственно прекращено. Это тоже произошло не случайно, поскольку социум как сверхорганизм всегда противодействует самостоятельности своих частей. Теоретически, сакральная и фортификационная консолидация цивилизованного общества опиралась на предметные формы с очень близкими социально-интегративными свойствами (святилище и крепость), однако вторая больше зависела от исторически переменных факторов (демографическое состояние общества, конкуренция человеческих популяций на социально- экономической почве и т.д.). Поэтому вероятность генезиса предметной формы цивилизации на основе фортификационных образований для самых ранних цивилизаций была невелика. Вообще в суждениях о генезисе цивилизации следует избегать апелляций к ближним доходчивым целям создания цивилизации, так как, с социально–философской точки зрения, движение общества к цивилизации во многом объяснялось глубинно действующими в обществе факторами, которые далеко не всегда лежали в сфере обыденных интересов людей. Социальная динамика, т.е. движение общества под действием приложенных к нему сил, применительно к эпохе становления цивилизации может быть представлена как цепь причинно–следственных событий, которые под влиянием демографических и социально–экономических факторов закономерно перевели некоторые довольно древние общества Ближнего Востока и сопряженных регионов из первобытного состояния в цивилизованное. Основное социальное различие этих состояний связано с наличием общественного разделения труда, т.е. профессиональных групп, подчиняющихся собственным, не общесоциальным законам типа зависимости между расширением посевных площадей и сокращением подразделения сельскохозяйственного труда и т.п. В основе цивилизационного развития тех ранних обществ, которым неоткуда было заимствовать технологические новшества, лежали, вероятно, демографические процессы. Естественный рост населения в мезолите привел к закономерному усложнению применяемой обществом технологии, что выразилось на рубеже голоцена в появлении начал производящего хозяйства (Левант, Загрос), которые сперва играли подчиненную роль по отношению к преобладающим традиционным промыслам (охота, собирательство). Производящее хозяйство является необходимым, но не достаточным условием возникновения общественного разделения труда. В неолитическом мире и в более поздние эпохи существовало немало обществ с производящей экономикой разных уровней развития, которые не могут быть отнесены к цивилизованным. Так, относительно эффективное производство примитивных земледельцев и скотоводов Новой Гвинеи (папуасов; время, необходимое для производства пищи, может составлять у них всего 10% активного времени, см. гл. I, 2) является достоянием еще вполне первобытного общества. Возникновение общественного разделения труда можно рассматривать как важный момент усложнения свойственной социуму технологии путем ее дифференциации. Такое усложнение технологии было следствием достижения обществом значительного демографического состояния. Это вытекает из постулируемой нами зависимости между численностью конкретного социума и степенью сложности практикуемой им технологии. По нашим представлениям, “демографический рубикон”, разделяющий структурно однородное первобытное общество и цивилизованное общество, состоящее из профессиональных групп, теоретически отвечал десятитысячной численности человеческой популяции, образцы которой появляются на ранней стадии развития классических цивилизаций. Популяция, достигшая такой численности, начинает подчиняться действию статистического закона больших чисел, и ее дальнейший рост уже не сказывается на ее статистических свойствах. Поведение маленькой популяции статистически плохо предсказуемо и для ее социализации общество развило технологию соответствующей степени сложности. Когда численность социума переваливает “демографический рубикон”, его поведение становится существенно предсказуемым, и при дальнейшем демографическом росте ситуация уже не меняется. Следовательно, для социализации популяции из 10000, из 100000 и т.д. человек достаточна технология одной и той же степени сложности (здесь наш закон корреляции демографии и технологии в первобытном его выражении — неразделенный труд — перестает выполняться). Излишне говорить, что технология, достаточная для поддержания жизни десятитысячного населения, едва ли будет оптимальна для стотысячного. Следовательно, для общества, подошедшего к “демографическому рубикону”, единственная возможность совершенствования своей технологии состояла в следующем. Общество должно было разбиться на социальные группы с численностью менее 10000 человек. Внутри этих групп закон больших чисел не действовал, и в них закон соответствия демографии и технологии продолжал выполняться без всяких ограничений. Такие группы стали основой профессиональных групп общества разделенного труда. При общем демографическом росте социума росли и его профессиональные группы, и усложнялась степень сложности их технологий. Если профессиональная группа сама приближалась к демографическому рубикону, в ней происходило разделение на подгруппы с численностью ниже демографического рубикона; по этим подгруппам происходила дальнейшая специализация производства, а при росте этих подгрупп усложнялась и свойственная им специализированная технология, причем внутри этих подгрупп по–прежнему продолжал выполняться закон соответствия демографии и технологии. Этот процесс демографической и технологической дифференциации социума теоретически был неограничен. В дифференцированном обществе, таким образом, закон соответствия демографического состояния популяции и степени сложности практикуемой ею технологии продолжал действовать в новом качественном варианте, когда технологии перестают быть общеупотребительными в социуме. В реальности это положение вещей отвечало институциализации общественного разделения труда. Отдельное действие закона соответствия демографии и технологии внутри подразделений труда, обусловливая их самостоятельное поведение, угрожало целостности социума. Для преодоления этого социально–дезинтегративного явления общество пришло к новому образу жизни, при котором социальная структура была опредмечена в инфра– и метаструктуре раннего города (отношения город–деревня, разделение города на кварталы по профессиональной принадлежности и т.д.). Угроза дезинтеграции для цивилизованного общества исходила от самодвижущихся средств коллективного производительного потребления, технологии которых стали самостоятельными в подразделениях труда. Поэтому нейтрализация социально–дезинтегративных последствий дифференциации средств коллективного производительного потребления исходила от консервативных средств коллективного непроизводительного потребления, господствующая предметная форма которых эквивалентна комплексу городских построек. Теоретически, ядром, объединяющим последние, закономерно должны были стать средства предельно коллективного и непроизводительного назначения. К их числу относились коллективные святилища и коллективные укрепления. Поэтому представляется неслучайным, что ядром формирования цивилизованного города становились храмы (Шумер) и фортификации (Микены). Стереотипы поведения первобытного человека были таковы, что на переход к жизни в стационарных условиях ограниченного города человеческие популяции закономерно отреагировали преобразованием своей социальной организации по патриархально-иерархическому образцу, который универсален для цивилизаций (известен в Шумере и повсеместно в других цивилизациях). Этот образец организации был оптимален для интеграции цивилизованного общества, однако, поскольку с той же задачей вполне могла бы справиться и матриархальная иерархия, конкретную патриархальную форму организации цивилизованного общества нельзя объяснять только потребностями социальной регуляции. Нельзя предполагать также и рождение патриархальной организации цивилизованного общества только на почве военных интересов этого общества. Есть основания считать, что в шумерских округах эпохи Джемдет Наср (3200–2900 до н.э.) и даже несколько раньше основы социальной структуры шумерского общества были уже достигнуты[95], но произошло это еще в отсутствии военизированной царской власти. Точно датировать возникновение цивилизации трудно, поскольку в первобытном неолитическом обществе все основные черты цивилизованной жизни были представлены. Ближе всего к цивилизации подошло неолитическое общество Чатал–Хююка, однако полной информации об этом обществе нет (в поздней фазе раскопан главным образом “квартал жрецов”). Чатал-Хююк заметно опередил и современные себе, и более поздние ближневосточные социумы неолита–халколита. Судьба Чатал–Хююка (протогород был заброшен, но не в результате военных действий) показывает, что этот социум не был рассчитан на местные экологические условия. Вероятно, непрерывный генезис ранней цивилизации начался в долине Нила в эпоху создания Нижнеегипетского царства, признаки существования которого можно усматривать в изображении нижнеегипетской короны на сосуде амратской эпохи Нагада I. Таким образом, период становления цивилизации надо датировать временем от появления первого протогорода (Чатал–Хююк, 9420–8440/8200–7350 14С) до появления признаков существования Нижнеегипетского царства (Нагада I, 6600–6400/5744±300–5577±300 14С), т.е. в пределах 8440–6400 календарных лет назад. В то же время следует учесть, что предположительная столица Верхнеегипетского царства в Энхабе амратского периода имела еще признаки протоцивилизации, однако ее прямые связи с более поздней египетской цивилизацией не вызывают сомнений (прямоугольный дом в Энхабе относился к числу точных прообразов египетского иероглифа “дом”). По регионам эпоха становления цивилизации может иметь менее высокие даты. Глава III ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РАННЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 1. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ В предшествующем изложении, упоминая о различных технологических и культурных достижениях первобытности и ранней цивилизации, мы избегали суждений об их сознательном изобретении людьми, предпочитая искать для этих достижений объективные основы материальной жизни общества. Такой подход объясняется вовсе не приверженностью к упрощенно материалистическому пониманию истории. Дело состоит совсем в другом. Сознательные изобретения технологических и культурных новшеств у современного человека тесно связаны со структурой его психологии, которая обладает явными признаками самосознания или способности к саморефлексии (в широком, не только философском смысле слова). Самосознание основывается у человека на способности полушарий его головного мозга обмениваться понятийной информацией. Не будет чрезвычайным упрощением сказать, что человеческая способность к самосознанию базируется на практике собеседования мозговых полушарий между собой. Оба полушария способны слышать и понимать как внешнюю, так и внутреннюю речь. Однако разговаривать умеет только левое полушарие (у правшей)[96]. Осуществляемая таким образом внутренняя речь создает у человека субъективное впечатление присутствия в его сознании “второго Я”. Целенаправленная мозговая деятельность, необходимая для сознательных изобретений, тесно связана с человеческой способностью к внутренней речи и самосознанию. Между тем внутренняя речь — очень позднее достояние человека современного типа. Это видно из того обстоятельства, что у современного человека при внутренней речи неслышно колеблются голосовые связки, откуда следует, что внутренняя речь представляет собой всего лишь беззвучный вариант внешней. Поскольку пережитки внешней речи при внутренней речи (самосознании, в психологическом смысле слова) у современного человека не изжиты, внутреннюю речь надо считать очень поздним образованием. Не вызывает сомнений, что древние люди современного типа еще не обладали навыками внутренней речи и самосознания, и вопрос состоит в датировке развития самосознания у современного человека. Предметная форма самосознания — письменность (см. далее) присутствует уже в эпоху ранней цивилизации, и поэтому начала самосознания следует датировать не позже раннецивилизованной эпохи. С другой стороны, в раннецивилизованную эпоху существовали и признаки отсутствия самосознания, а потому его появление нельзя датировать ранее цивилизованной эпохи, с которой, вероятно, и связано зарождение самосознания. Этот вывод опирается на социально–психологические исследования Дж.Джейнса[97]. Объективный анализ отношения раннецивилизованных людей (в том числе шумеров)[98] к своим богам, а точнее, к их идолам и храмам, привел Дж.Джейнса к выводу, что в раннецивилизованную эпоху у людей не существовало современного абстрактного понятия бога. Эта абстракция, свидетельствующая о самосознании, относится к числу немногих, поддающихся обнаружению по древним косвенным материальным признакам. Шумеры, относившиеся к своим идолам, как к реальным богам, этой абстракции явно были лишены. Анализируя текст “Илиады”[99], Дж.Джейнс пришел к выводу, что в кульминационные моменты Троянской войны ее участники руководствовались галлюцинациями, воспринимаемыми как голоса богов, а не доводами самосознания (на наш взгляд, по тексту “Илиады” действительно получается так). Мезолитические люди (натуфийцы) относятся к представителям несамосознательного общества[100]. Принимая в целом концепцию Дж.Джейнса[101], мы должны отметить, что ее детали нуждаются в уточнении. В частности, “Илиада” в ее законченном выражении была, строго говоря, созданием не микенских, а дорийских греков (нецивилизованных преемников микенских ахейцев в Греции). Так что несамосознательными были, вероятно, ранние дорийцы. Правда, по лингвистическим данным, гомеровский эпос восходил, возможно, к микенской эпической традиции[102], однако части “Илиады”, предположительно мало изменившиеся с микенской эпохи (например, упоминавшийся “Каталог кораблей”), не содержат информации по духовной жизни микенского общества. Положение Дж.Джейнса о том, что досамосознательные люди управлялись слуховыми галлюцинациями, представляется несколько избыточным. Из текста “Илиады” видно только, что ее герои не руководствовались самосознательными мотивами современного типа, а Гомер объяснял перемену линии их поведения вмешательством богов, похожим на слуховые галлюцинации. Однако распространять такую форму управления на поведение человека в целом, по–видимому, нет оснований (в частности, самоуправляющиеся животные, очевидно, обходятся без галлюцинаций, так что нет оснований приписывать последние человеку). Совсем неудовлетворительной представляется гипотеза Дж.Джейнса о движущих силах генезиса самосознания. Дж.Джейнс на этот счет выступил с неокатастрофической концепцией, согласно которой стихийные бедствия (вроде извержения вулкана Санторин на о.Фера в 1470 г. до н.э.), рассеивая традиционные общества, заставляли их представителей–изгоев в новой социально–культурной среде приспосабливаться к ней путем обретения самосознания[103]. Подобный наивный ход рассуждений не выдерживает критики хотя бы потому, что в этом случае самосознание должно бы было быть таким же древним, как и стихийные бедствия или социально–культурные катастрофы. Однако подмеченные Дж.Джейнсом факты и его идея о несамосознательности доцивилизованных людей должны быть учтены. На наш взгляд, генезис индивидуального самосознания в раннецивилизованную эпоху был связан со структурными преобразованиями первобытного общества, которое, перейдя в цивилизованную стадию, перестало быть однородным образованием, в связи с распадом на профессиональные группы. Внутри основных профессиональных групп, связанных с сельским хозяйством, ремеслом и торговлей вполне достаточными оставались первобытные формы общественного сознания. Однако в профессиональной группе умственного труда, осуществляющей координацию деятельности других профессиональных групп, ситуация изменилась. Хозяйственная администрация шумерских храмов, храмовых и дворцовых хозяйств древнего Египта, хозяйств Элама, дворцовых хозяйств Крита и микенской Греции и т.д. осуществляла распределительные и производственно–регулятивные функции по отношению к представителям других профессиональных групп. Начала социальной регуляции исходили из подразделения умственного труда и в его собственном случае должны были на нем же замыкаться. Проще говоря, подразделение умственного труда, освоив методы социальной регуляции других профессиональных групп, должно было распространить эти принципы и на само себя. Таким образом подразделение умственного труда в одно и то же время становилось и социально-регулирующим, и регулируемым образованием, а применительно к конкретной обстановке — саморегулируемым. Подразделение умственного труда было единственной общественной группой, существование которой регламентировалось методами саморегуляции. Контролируемые группы выполняли производственные и распределительные директивы, исходящие извне: от хозяйственной администрации, связанной с сакральной, торговой, судебной и военной деятельностью. Контролирующая группа выполняла, очевидно, свои собственные директивы; иными словами, ее жизнедеятельность в определенной степени основывалась на методах самоконтроля. Индивидуализация подразделения умственного труда в общественной структуре первоначально была, конечно, групповой. Однако ее развитие в перспективе ориентировалось на переход методов самоконтроля на индивидуальный уровень. Всякое развитие представляет собой дифференциацию. Следовательно, развитие групповой функции самоконтроля в подразделении умственного труда должно было выразиться в ее дифференциации, т.е. в появлении в этом подразделении самоконтролирующихся индивидов, что одновременно выражало тенденцию дальнейшей дифференциации индивидуализации подразделения умственного труда в структуре общества. Но индивидуальные методы самоконтроля, становящиеся достоянием отдельных людей весьма близки по своей природе феномену самосознания. На обыденном уровне индивидуальный самоконтроль у человека предполагает развитие у него навыков внутренней речи, самооценки, умения отличать собственные интересы от коллективных. Представляется вероятным, что навыки индивидуального самосознания возникли у деятелей умственного труда именно таким путем. Факты из истории ранней цивилизации подтверждают такое предположение, поскольку именно у подразделения умственного труда раннего цивилизованного общества возникла предметная форма индивидуального самосознания — письмо. Истоки ближневосточной письменности восходят к началу голоцена. С этого времени на Ближнем Востоке появляются глиняные фигурки (жетоны, фишки), которые, в конце концов, распространяются по территории от Малой Азии до Инда и от Судана до юга Средней Азии. Для этих объектов предполагалось счетное назначение[104]. Затем Д.Шмандт–Бессера сравнила жетоны с протошумерскими иероглифами, воспроизводящими контуры жетонов. Выяснилось, что жетоны символизировали товары (конус с ободком — кувшин масла, диск с крестом — овца, диск с крестом и чертой-радиусом в одном из секторов — овцематка, широкоугольный треугольник со штриховкой — пруток серебра, остроугольный треугольник с пунктуациями — рабыня и т.д.), а также учитывающие их числительные (веретенообразный жетон — единица, шарик — десятка и т.д.). Накануне возникновения шумерской иероглифики жетоны стали помещать в пустотелые глиняные шары — булы, на поверхности которых стали затем оттискивать сами жетоны. Монолитные булы с оттисками жетонов превратились в прообразы древнейших глиняных табличек с протошумерскими иероглифами, воспроизводящими жетоны. Булы с жетонами служили накладными, сопровождающими партии товаров, символизируемых жетонами. Широкое распространение жетонов подсказывает существование глиняного предметного письма — своего рода неолитического эсперанто, по–видимому, понятного своим носителям независимо от их языковой принадлежности. Жетонное предметное письмо отличалось крайней узостью своего репертуара (товары и цифры) и потому, конечно, не может рассматриваться как предметная форма самосознания. Тематика протошумерских иероглифических текстов (позднеурукский период и период Джемдет Насра, письменные памятники слоя IV В Урука появляются чуть раньше слоя IV А, датируемого 5470/4765±85 14С) несколько богаче, хотя по–прежнему ограничивается разными хозяйственными операциями[105]. Шумерская клинопись, выросшая из иероглифики, датируется временем двадцать второго (предпоследнего) царя I династии Киша Эн–Менбарагеси (ок. 2615 до н.э.; к концу того же II раннединастического периода относится архив из Шуруппака, Фара, Ирак, конца I династии Урука, 2600–2500 до н.э., в котором, наряду с хозяйственными, имеются тексты социально-политического значения)[106]. Египетская иероглифика имеет возраст, сопоставимый с протошумерской письменностью (нулевая династия Египта, ок. 5340–5110/4650–4450 14С), однако генезис египетской письменности известен хуже, чем шумерской. От нулевой династии Египта дошли надписи хозяйственного и военно-политического содержания[107]. Шумерская, а затем аккадская клинопись, также как египетская иероглифика, были системами письма, способными в полном объеме выражать современные им языковые явления. Правда, формальные особенности этих письменностей делали передачу языка, по современным представлениям, несовершенной, но это обстоятельство не имело отношения к тематике передаваемых сообщений. Между тем содержание шумерских и раннеегипетских памятников оставалось хозяйственным, культовым или военно-политическим, что ясно указывает социальный источник происхождения ранней письменности: это была профессиональная группа умственного труда. О том же свидетельствует не только авторство ранних текстов, созданных писцами, представляющими группу умственного труда, но и содержание этих текстов, отражающих интересы этой группы. Возникновение самосознания знаменовало собой первый этап дифференциации подразделения умственного труда, поскольку самосознание, являясь достоянием отдельных индивидов, показывало распад единого общественного сознания группы умственного труда. Между тем, как отмечалось выше (см. гл. II, 2), цивилизация являлась социально–интегративным феноменом и на все проявления общественной дифференциации, — будь то материальная или духовная дифференциация, — реагировала порождением интеграционных предметных или идеальных форм, способных нейтрализовать последствия общественной дифференциации, угрожающей целостности социума. Можно было бы ожидать, что цивилизация выработает предметную форму и для самосознания, отдифференцировавшегося от единого общественного сознания и стремящегося к дальнейшей еще большей дифференциации на подгрупповом (наука, история, литература и пр.) и индивидуальном уровне. Поскольку самосознание связано с навыками внутренней речи, владеющий ею человек впервые в истории стал обладателем формы сознания, способной функционировать вне непосредственных контактов индивидов. Все типы вторичных общественных структур и связанных с ними вариантов общественного сознания (анализированных в гл. I,3) рассчитаны на непосредственные контакты индивидов: жестовая и звуковая речь — на слушателей, ритуал — на соучастников и т.д. Можно думать, что до появления индивидуального самосознания ни форм вторичных структур, ни форм общественного сознания индивидуального назначения не существовало. С возникновением индивидуального самосознания такая форма появилась. Самосознание человека может функционировать как при его контакте с другими индивидами, так и вне этих контактов. В интересах сохранения целостности своего подразделения умственного труда социум должен был найти возможность сделать второй вариант функционирования индивидуального сознания достоянием всех членов подразделения умственного труда. Для этого индивидуальному сознанию требовалась предметная форма, способная стать посредником обмена проявлениями индивидуального самосознания у людей. На наш взгляд, в интересах обмена проявлениями самосознания была использована протошумерская предметная письменность, которая в цивилизованную эпоху прошла стремительную эволюцию в клинописное письмо. Обычно считается, что письменные регистрации являлись записями для памяти. Но записи для памяти нужны лишь той форме сознания, которая способна функционировать вне непосредственных контактов индивидов. С социально–философской точки зрения, эти записи для памяти были важны не только по прямому назначению (хозяйственный учет и т.д.), но и для того, чтобы сделать проявления индивидуального самосознания общественным достоянием, т.е. социальноинтегрировать носителя индивидуального самосознания. Таким образом, письменность можно рассматривать как предметную форму индивидуального самосознания, призванную сделать его проявления достоянием других членов социума и тем самым обеспечить интеграцию интеллектуальной деятельности носителей индивидуального самосознания в рамках соответствующего подразделения вторичной идеологической структуры общества. Как можно думать, формы проявления индивидуального самосознания были специфичны для подразделения умственного труда и существовали в окружении традиционных форм общественного сознания, унаследованных цивилизацией от предшествующих эпох. Эту культурную преемственность нельзя объяснять только инертностью идеологических представлений общества, поскольку она сама нуждается в объяснении. Цивилизованное общество разделенного труда отличалось от предшествующего общественного состояния важными признаками количественного и качественного характера. Прежде всего, общество разделенного труда располагало формами общественного производства, более эффективными, чем те, что были присущи первобытному обществу. О том свидетельствует сам факт появления институциализированных отраслей несельскохозяйственного производства, представленных различными формами ремесла, зодчества, горного дела и т.д., а также функционирование профессиональных групп, занятых в основном распределением произведенных материальных благ, — купцов и управленческой администрации. Надо сказать, что четкой грани между подразделениями труда поначалу не существовало, поскольку, например, в Шумере ремесленники получали за работу, помимо натуральных выдач, также и земельные наделы[108], которые, впрочем, необязательно обрабатывали сами. Это обстоятельство объяснялось слабой развитостью товарно–денежных отношений. Однако значительное количество шумерских несельскохозяйственных профессий показывает, что достигнутый уровень сельскохозяйственного производства способен был обеспечивать существование определенных групп лиц, постоянно не связанных с сельским хозяйством. Для общества в целом это означало наличие значительного количества времени, свободного от добычи средств к существованию. Социум распорядился этим временем двояко. Во–первых, часть людей была изъята из сельскохозяйственного производства, что повысило в нем занятость; освобожденные от постоянных сельхозработ лица нашли применение в сфере ремесла и прочих несельскохозяйственных занятий: в общем, сложилась типичная картина общества разделенного труда. Во–вторых, цивилизованный социум занимал остающееся свободным время своих членов различными коллективными мероприятиями из области вторичных общественных структур. В этом отношении цивилизованное общество продолжало практику первобытного общества, в котором свободное время в интересах его социализации заполнялось различными формами общения непроизводственного характера. В цивилизованном обществе этого времени в принципе могло быть больше, в связи с чем требовались более емкие вторичные структуры. Кроме того, цивилизованное общество не было однородным, а потому его вторичные структуры должны были, помимо социализации свободного времени, способствовать консолидации профессиональных групп, что могло вызвать к жизни некоторые элементы вторичных общественных структур, неизвестных в первобытности. Однако во всех случаях для социума были предпочтительнее вторичные структуры традиционного характера. Проще сказать, вторичные структуры цивилизованного общества должны были быть частью культурного генеалогического древа, уходящего корнями в первобытность. Попробуем объяснить необходимость этого обстоятельства. Представим себе, что дифференциация первичных структур общества, основанная на специализации технологий, разделении труда и т.д., будет сопровождаться дифференциацией и вторичных общественных структур, что выглядит в общем–то логично. Но в этом случае специализированные вторичные структуры, очевидно, начнут утрачивать способность осуществлять общесоциальную интеграцию, поскольку области их приложения станут более частными, специализированными. Этот ход событий не отвечал социально- интегративным потребностям социума. Следовательно, для вторичных общественных структур оптимальным было сохранение по возможности своего прошлого менее дифференцированного состояния, отвечающего задачам общесоциальной интеграции. Таким образом инертность вторичных общественных структур, их связь со своим прошлым недифференцированным состоянием получает социально–философское объяснение. Как нам известно из примеров с культово–астрономическими центрами мегалитического общества, с храмовыми центрами убейдского Шумера, вторичные структуры имели тенденцию к централизации в подобных центрах, а не к дифференциации сообразно потребностям локальных общин. Можно было бы ожидать, что в цивилизованном обществе разделенного труда социум будет сохранять вторичные общественные структуры древнего происхождения, рассчитанные на менее дифференцированное состояние общества, а потому способные успешно осуществлять общесоциальную интеграцию более дифференцированного общества, в данном случае — общества разделенного труда. Этот случай близко связан с природой сохранения социальной связи в истории (см. гл. III, 2). При наследовании цивилизацией вторичных общественных структур первобытности наблюдались два основных принципа этого наследия. Во–первых, цивилизованное общество, располагая относительно высокой производительностью труда и сообразным ему свободным временем, подлежащим социализации, способно было ассимилировать весь арсенал вторичных общественных структур, который был присущ первобытности. Во всяком случае, нам неизвестно таких форм общественного сознания первобытности, которые бы не были унаследованы ранним цивилизованным обществом в полной мере или в виде пережитков. Диахронические и синхронические общечеловеческие черты цивилизации находят объяснение именно здесь. Во- вторых, цивилизованное общество, унаследовав от первобытности вторичные структуры, было заинтересованно в сохранении ими архаичного недифференцированного состояния, рассчитанного на соответствующее менее дифференцированное состояние общества, а потому оптимально пригодного для социальной интеграции общества разделенного труда. Существенно, что появление новых форм общественного сознания, происходящих от древних архетипов, не сопровождалось вытеснением новыми формами родственных древних архетипов. Напротив, они продолжали совместное параллельное сосуществование, умножая тем самым объем вторичных общественных структур, в чем была заинтересована цивилизация. Социально-интегративная матрица цивилизации должна была охватывать любые проявления общественного и индивидуального самосознания. Цивилизация без особых усилий унаследовала от первобытности древние формы общественного сознания, взаимоинтегрированные еще в незапамятные времена: язык, ритуал, календарь, мифология, нравственность, пережитки тотемизма и магии, погребальный культ, художественное творчество, пережитки фетишизма и анимизма (нашедшие новую жизнь в цивилизованную эпоху в рамках религии), музыкальное и танцевальное творчество (см. гл. I, 3). В эпоху цивилизации к этим формам проявления вторичных общественных структур добавились некоторые новации, отмеченные печатью социально–интегративных потребностей цивилизации. Изобразительное искусство было по происхождению сакральным (во всяком случае мифологическим), и появление светского искусства в раннецивилизованное время представляло собой своего рода дупликацию (удвоение) архетипа изобразительного искусства в виде религиозного и светского. Сходная дупликация привела к отпочкованию драматического искусства от архетипов религиозных мистерий и т.д. Нравственные формы поведения, регламентируя взаимосогласованные и предсказуемые поступки членов общества, способствовали его интеграции. В первобытном социуме нравственные нормы были одинаковы для всех его представителей, что отвечало структурной однородности первобытного общества. В эпоху разделения труда положение, интересы и имущественные возможности представителей различных профессиональных групп стали различаться, что не учитывалось системой общеупотребительных нравственных норм, которые, как известно из истории классового общества, испытали даже дивергенцию внутри различных социальных классов. В таких условиях нравственные формы регуляции человеческих отношений становились недостаточны для успешной интеграции общества в целом. В этой связи нравственные нормы, понимаемые лишь как способ взаимного согласования поведения индивидов, испытали своего рода дупликацию, породив очень близкие себе по задачам правовые нормы поведения, которые имеют большое сходство с запретительной (но также и с рекомендательной) составляющей нравственных нормативов. Правовые нормы поведения не апеллируют к общеупотребительной морали и представляют собой стереотипы общественных реакций на поведение индивидов, отклоняющееся от общепринятых норм (обычное право) и норм, зафиксированных в кодифицированных законах (законодательное право). Правовые нормы, конечно, не являются эквивалентом нравственных норм, однако социально–регулятивные задачи тех и других идентичны. С социально- философской точки зрения, нравственные и правовые нормы преследуют цели обеспечить целостность социума, выражающуюся в однотипности и предсказуемости поведения его членов. Поэтому в рамках вторичной общественной структуры правовые нормы должны рассматриваться как генетически связанные с нравственными нормами. Цивилизованный социум, заинтересованный в умножении разновидностей своих вторичных структур, никогда не отменял их варианты, ставшие почему–либо недостаточными. Напротив, из старого варианта выводился более современный новый, который затем продолжал существовать наряду со старым. По-видимому, с начала ранней цивилизации параллельно с нравственностью существовало обычное право, которое затем в актуализированной форме было кодифицировано. Наиболее ранние образцы законодательного права происходят из Шумера. Имеются изложения модернизированных законов Энметены (2360–2340 до н.э.) и Уруинимгины (2318–2312 до н.э.; пятый и девятый цари I династии Лагаша), а также своды законов Ур–Намму (2112–2094/93 до н.э.) и Шульгира (2093–2046 до н.э.; первый и второй цари III династии Ура), которые являются древнейшими памятниками писаного права[109]. Судебник Ур–Намму в отдельных положениях выходит за рамки обычных шумерских норм, что может сигнализировать о проявлении признаков правового самосознания. Своеобразным ответвлением того же стереотипа поведения в эпоху ранней цивилизации явились проявления политической активности. Если мораль и право регламентировали взаимоотношения индивидов, то стереотипные проявления политической активности в известной мере регламентировали взаимоотношения целых социальных образований — государств. Применительно к ранней цивилизации речь не может еще идти об институциализированной дипломатии и, тем более, о нормах международного права. Однако то и другое имело древние предпосылки в отношениях государств, сложившихся еще в эпоху раннединастического Шумера. Начиная с I династии Киша (ок. 2750–2615 до н.э.) в Шумере сложилась система последовательного доминирования отдельных городов–государств (округ Киша, Урука и т.д.), хотя общешумерская царская титулатура появляется лишь при II династии Урука и Ура (“лугаль Страны, эн Шумера”, 2425–2336 до н.э.). Эта система складывалась стихийно, но поведение шумерских округ в ее рамках выглядит достаточно стереотипно. Крупномасштабная политическая история древнего Египта и, вероятно, Шумера подчинялась определенной политической закономерности. Отсюда следует, что навыки своей политики египтяне и шумеры не изобрели: основные направления их политической активности были подсказаны им естественно–историческим течением событий. Шумеры отражали свою политическую историю, о чем свидетельствует надпись “Конуса Энметены” (2360–2340 до н.э.), рассказывающая о взаимоотношениях между городами Лагаш и Умма в период ок. 2400–2360 до н.э., а также “Царский список”, составленный при Ур–Намму (2112–2094/93 до н.э.) и вкратце освещающий основные военно–политические события периода 2900–2112 до н.э. (впоследствии список был продолжен). В связи с событиями политической истории у шумеров обнаружились редкие признаки национального самосознания, направленного против господствовавшего в стране племени кутиев (ок. 2200–2109 до н.э.), о чем свидетельствует надпись–поэма Утухенгаля (2116/2111-2109/2104 до н.э., V династия Урука)[110]. Выступление шумеров против кутиев было приурочено к смене у них правителей, что говорит о способности вести политический расчет, а прием эламских послов — о каких-то началах дипломатии. Социальное значение политической активности было двояким: с одной стороны, всякая внешняя активность консолидировала социум, явившийся ее источником, а с другой — внешняя активность социума была проявлением его общественно–интегративных свойств, направленных на консолидацию вокруг него окружающей социальной среды. Последнее обстоятельство отразилось в политической идеологии Месопотамии в “имперском” понятии “Царства четырех стран света” (Нарам–Суэн, 2236–2200 до н.э., четвертый царь династии Аккаде). Как можно видеть, основные типы вторичных общественных структур и соответствующих им форм общественного сознания ранней цивилизации, строго говоря, не были изобретениями цивилизации. Они явились прямыми продолжениями вторичных общественных структур, присущих первобытному обществу. При этом надо учитывать следующее обстоятельство. Первобытные |
|
© 2000 |
|