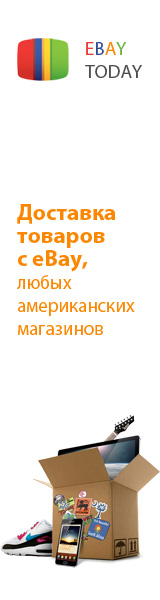|
РУБРИКИ |
Происхождений цивилизации |
РЕКЛАМА |
||
|
Происхождений цивилизацииархетипы вторичных общественных структур и соответствующих им форм сознания в эпоху ранней цивилизации были дуплицированы (удвоены). Древний вариант архетипа продолжал существование, сохраняя тесную преемственность со своим первобытным состоянием. Новое ответвление архетипа сохраняло с ним лишь общетипологическую связь и обретало в цивилизованных условиях конкретные новые свойства. Так образовалась целая серия парных линий родственных вторичных общественных структур, к которым из числа перечисленных можно отнести следующие: общественное сознание в целом и индивидуальное самосознание, обычный звуковой язык и дублирующий его письменный язык, сакральное изобразительное искусство и параллельный ему светский вариант, мистерии религиозного культа и светский театр, нравственные нормы поведения и нормы поведения правового и, может быть, политического свойства. В дальнейших разделах будут рассмотрены исторические и научные формы сознания, которые могут пополнить этот список. Цивилизация использовала первобытные архетипы вторичных общественных структур, образовывала от них новые и сохраняла старые наряду с новыми, конечно, не случайно. Такое применение вторичных общественных структур обеспечивало их значительный объем, который отвечал объему свободного времени, имеющегося у людей высокопроизводительного общества разделенного труда. Кроме того, все вторичные структуры цивилизованного общества уходят генеалогическими корнями в первобытность, и это тоже не случайно. Первобытные вторичные структуры социализировали общество неразделенного труда и являлись общеупотребительными. Их древние общеинтегративные свойства еще больше подходили для общества разделенного труда, нуждающегося как раз в общеупотребительных формах общественного сознания и соответствующих вторичных структур. Поэтому отпрыски их первобытных архетипов, наряду с ними самими, нашли широчайшее применение в цивилизованном обществе разделенного труда. Этот принцип применения социумом древних социальных связей для самоинтеграции в новых условиях означает, что социум имел тенденцию использовать свое старое менее дифференцированное состояние для интеграции своего нового более дифференцированного состояния. Природу образующихся таким образом социальных связей в истории мы рассмотрим в следующем разделе. 2. ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИИ Проблема социальных связей в истории, близкая проблематике философии истории, имеет две области приложения. С одной стороны, социальная преемственность имела место в сфере материальной жизни общества, а с другой стороны, аналогичная социальная преемственность наблюдалась и в сфере духовной жизни общества. На наш взгляд, оба варианта сохранения социальной связи в истории имели идентичную природу, характер которой можно усмотреть в стремлении социума использовать основы своей жизнедеятельности, заложенные на стадии его относительно меньшей дифференциации, для интеграции своего более дифференцированного состояния. Наиболее важные этапы исторического развития общества были связаны с его дифференциацией. Согласно нашей гипотезе, изложенной в гл. I, 2, между демографическим состоянием общества и степенью сложности практикуемой им технологии существует определенное соответствие. В истории известно два относительно кратковременных периода значительного изменения демографического состояния общества. На рубеже плейстоцена и голоцена (11700/10200 14С) на Ближнем Востоке имел место первый значительный демографический взрыв, который закономерно (по нашей гипотезе) вызвал неолитическую технологическую революцию, сопровождавшуюся общественным разделением труда. Другой значительный демографический взрыв начался в Западной Европе около XI — середины XVI в. нашей эры. Это демографическое событие закономерно вызвало промышленную технологическую революцию и появление массового производства. В исторические периоды, предшествовавшие этим демографо–технологическим событиям, состояние дифференциации общества менялось относительно мало. На самом деле, конечно, детальный анализ показывает, что дифференциация общества постепенно по ряду признаков нарастала и в промежуточные периоды (см. гл. I–II), однако революционные изменения общественной дифференциации действительно имели место только дважды в истории. До плейстоцен–голоценового демографического взрыва производительные силы первобытного общества отвечали состоянию неразделенного труда, который оставался общественно неспециализированным, несмотря на определенные изменения технологии, следовавшие за постепенным демографическим ростом социума. Общественные отношения первобытности основывались на однородной социальной структуре, локальная специфика которой определялась характером кровно–родственных отношений: в первобытности они, по–видимому, подчинялись закону Дж.Крука (см. гл. I, 2). Вторичная структура первобытного общества предполагала существование только общественных форм сознания (язык внешней речи, анималистическая мифология, нравственность, разновидности первобытных верований, сакральное изобразительное искусство). В ходе голоценового демографического взрыва производительные силы испытали дифференциацию по подразделениям труда. В сфере общественных отношений также произошла дифференциация, вызвавшая отделение производственных отношений от кровно–родственных. В цивилизованных условиях кровно–родственные отношения перестали подчиняться закону Дж.Крука и ограничились патрилинейным вариантом, который именно по этой причине Л.Г.Морган счет финальным, хотя в действительности патрилинейность как вариант кровно–родственных отношений в подходящей экосреде существовала у человека со времен обезьяньих предков. Производственные отношения перестали отвечать однородной общественной структуре и стали классовыми. Вторичная структура цивилизованного общества отмечена серией дифференциаций первобытных архетипов, к которым добавились такие формы, как индивидуальное самосознание, внутренняя речь и письменный язык, антропоморфная мифология, этикет, право, политика, светское изобразительное искусство, театр, наука (см. гл. III, 3). Это состояние общества просуществовало до начала современного демографического взрыва: производительные силы, малопригодные для массового производства; типологически близкие производственные отношения рабовладения и феодализма; вторичные общественные структуры, основные формы которых были заложены уже в античности. В ходе современного демографического взрыва появились технологии, рассчитанные на массовое производство и разделение труда на уровне технологических операций, изменилась классовая структура общества (стал типичен массовый наемный труд); в области вторичных общественных структур возникли элементы массовой культуры (книгопечатание, газеты и многое другое), неизвестные ранее. Массовое производство, массовый наемный труд и массовая культура хорошо отвечают современной демографической обстановке. Если рассматривать общество в указанной долгопериодичной исторической перспективе, то оно представится как довольно консервативное образование. В самом деле, исходя из здравого смысла и из гипотезы (несостоятельной), что технологические, общественные и духовные новшества обязаны происхождением удачному изобретению себя человеком, окажется совершенно непонятным, почему пики этих изобретений приходились на демографические взрывы, а в промежутках между ними в значительной степени сохранялось достигнутое положение вещей. Этот парадокс объясняется тем обстоятельством, что успешное самосохранение социума обеспечивалось его способностью к консервации своего состояния, обеспечиваемой существованием во времени социальных связей людей. Консолидация самого раннего первобытного социума обеспечивалась соответствием его демографического состояния и степени сложности его технологии. Эта архаическая социально–интегративная зависимость была затем пронесена социумом через всю его историю, несмотря на растущую в обществе дифференциацию, углубление которой особенно ярко проявилось во время голоценового и современного демографических взрывов. Указанная демографо–технологическая зависимость была рождена в совершенно недифференцированном обществе. Следовательно, эта зависимость действует на всякий подчиняющийся ей социум так, словно он лишен внутренней дифференциации, и тем самым интегрирует его независимо от существующей технологической специализации. В этом случае социуму удается использовать свое древнее недифференцированное состояние (демографо–технологическую зависимость, рожденную древнейшим недифференцированным обществом) для интеграции всякого нового своего более дифференцированного состояния (действие демографо–технологической зависимости в технологически специализированном обществе). Эта основанная на приемственности демографо–технологической зависимости социальная связь непрерывно длится уже около 2,6 млн. лет (2,63±0,5/2,58±0,23). Зависимость, позволяющая более крупному коллективу располагать более эффективной технологией, очевидно, предполагала равновесие социума с естественной экосредой как предметом труда. Если же сообщество находится в равновесие с экосредой, в нем действует закон Дж.Крука, предписывающий сообществу определенный вариант кровно–родственных отношений, предусмотренный уровнем биопродуктивности наличной экосреды. Следовательно, весь первобытный период действия демографо–технологической зависимости общество использовало для своей интеграции варианты кровно–родственных отношений, учитываемых законом Дж.Крука. В данном случае общество использовало для своей интеграции структуру сообщества, не меняющуюся во времени. В цивилизованных обществах из всех вариантов реализации закона Дж.Крука получил распространение иерархически патрилинейный вариант, который определил формы организации кровно–родственных отношений и отношений подразделений труда. Здесь социум использовал для интеграции своего нового более дифференцированного состояния общественную структуру, рожденную его прежним недифференцированным состоянием. В цивилизованную эпоху структура общества разделенного труда была опредмечена в форме поселения городского типа. Это новое средство социальной интеграции оказалось исключительно устойчивым и пережило все общественные дифференциации, испытанные цивилизацией. В известном смысле можно сказать, что современное весьма дифференцированное городское население интегрируется предметной структурой, возникшей еще в бронзовом веке и рассчитанной на гораздо менее дифференцированное общество, нежели современное. Этот пример показывает еще один факт использования социумом своего менее дифференцированного состояния (древнее городское общество) для консолидации современного состояния, много более дифференцированного. Начиная с первобытной эпохи социум социализировал свободное время своих членов при помощи непроизводственных форм общения, образующих вторичную структуру общества. История вторичной общественной структуры представляет собой сложную проблему (см. гл. I, 3), однако некоторые ее элементы датируются достаточно надежно. В частности, анималистическая франко–кантабрийская мифология существовала неизменной на протяжении всего верхнего палеолита и, возможно, восходила к мустьерским и даже верхнеашельским временам. Возраст счетно–календарной знаковой системы составлял не менее 350000–300000 лет и, вероятно, достигал 730000 лет. Другие элементы вторичной общественной структуры (ритуал, нравственность), по косвенным признакам, имели сопоставимую древность. Поэтому складывается впечатление, что социум очень давно использовал для своей интеграции человеческие отношения, предполагающие существование общественного сознания. Цивилизованное общество не только унаследовало первобытные вторичные структуры, но и значительно расширило их состав. Использование цивилизованным обществом вторичных структур первобытного происхождения показывает важный пример применения социумом формы своей малодифференцированной организации (первобытные вторичные структуры) для интеграции своего гораздо более дифференцированного состояния, свойственного цивилизованному обществу разделенного труда. Последний случай позволяет по–новому взглянуть на общественную природу той социальной связи в истории, которая представлена в сфере исторического самосознания цивилизованного человека и выражена в письменных памятниках исторического содержания. Эта проблема представляется довольно сложной, поскольку назначение наблюдений, издавна осуществляемых цивилизованными людьми над своей историей, остается загадочным, а его понимание — интуитивным. Первые памятники исторического содержания появляются во время нулевой династии Египта (3390–3160 до н.э.), однако они еще лишены датировок. От фараона Хора Ухи (Скорпиона)[111] дошла “палетка городов”, из пиктографии которой следует, что этот фараон разрушил в Ливии семь городов–крепостей с указанием их названий. По–видимому, это — древнейшее в истории сообщение военно-политического свойства. Палетка Хора Нара (Сома) Мера сообщает о поражении, нанесенном этим фараоном Нижнему Египту (вероятно, восставшему), а булава того же царя — о захвате (вероятно, в Нижнем Египте) 400000 быков, 1422000 голов мелкого скота и 120000 пленников. В период I династии Египта (3160–2930 до н.э.), начиная с Хора Ахи (Бойца) Мины (3160–3098 до н.э.), появляются памятники, датированные погодно. Древнейшая египетская летопись была составлена во время V династии (2563–2423 до н.э.), возможно, при ее третьем царе Нефериркаре Какаи (Наф–ар–ку–Риа Кукуйа), и дошла в копии XXV династии (715–664 до н.э.), называемой Палермский камень (с этим памятником связан и ряд фрагментов). Летоисчисление при первых династиях велось по знаменательным событиям каждого года, а наименования годов заносились в особые списки, где под записями каждого года указывался уровень разлива Нила. Такая летопись составила содержание Палермского камня и была дополнена еще указаниями фараонов, предшествующих I династии (нулевая династия, нижнеегипетская и, предположительно, верхнеегипетская династии)[112]. Концепция памятника (если она была) состоит в демонстрации непрерывности царской власти в Египте. В Шумере своеобразная летопись, именуемая “Царский список”, была составлена при Ур–Намму (2112–2094/93 до н.э., основатель III династии Ура) и доведена до династии Иссина (2017–1794 до н.э.). Этот памятник основывался на ряде царских списков местного значения, на датировочных формулах, аналогичных египетским (с 2500 до н.э. или раньше), на эпическом и литературном материале. “Царский список” излагает краткую историю того, как “царственность” (связанная отчасти с гегемонией конкретной округи в Шумере) переходила из города в город, пока не попала к Ур-Намму. Цели подобного изложения привели к тому, что некоторые отчасти синхронные династии оказались размещенными в “Царском списке” в диахроническом порядке[113]. Иными словами, шумерский “Царский список” представляет определенную концепцию истории общешумерской царской власти, а не истории отдельных округ Шумера, представленных в “Царском списке”. Стремление показать непрерывность общешумерской царской власти, которая в раннединастический период возникала лишь спорадически и в известной мере, привело составителя “Списка” к искажению истории. Это показывает, что “Царский список” не является механической комбинацией сведений, имевшихся в распоряжении автора, но отражал определенную форму исторического самосознания. Шумерский “Царский список” отчасти напоминают древнеегипетские памятники: Туринский царский список (XVIII династия, 1554–1306 до н.э., по хронологии Ю.фон Беккерата), Абидосский царский список (при втором царе XIX династии Сети I, или Сутайа, 1305–1295 до н.э.) и Саккарский царский список (Рамсес II, Риа–масэ–са, 1295–1229 до н.э.), концепция построения которых аналогична летописи Палермского камня. Более поздние месопотамские источники (“Хроника ранних царей”, Агум III, между 1450 и 1415 до н.э.; “Династическая хроника”, Эриб–Мардук, ок. 770 до н.э.; и др.) продолжают традицию шумерского “Царского списка”. Ранние исторические памятники (Палермский камень, некоторые источники шумерского “Царского списка”) составлялись в качестве сводов погодных записей, привязанных к правлениям царей. Такой генезис первой историографии близко напоминает практику составления древних хозяйственных документов. Шумерские хозяйственные записи раннединастической эпохи датировались[114], причем эта практика восходила еще к документам протошумерской иероглифики эпохи Джемдет Наср (3200–2900 до н.э.)[115]. Из практики хозяйственного делопроизводства Пилосского царства (ок. 1200 до н.э.) известно, что отдельные хозяйственные записи сводили в более обширные регистрационные тексты (что показано на примере родства некоторых серий мелких и крупных табличек линейного письма В)[116]. Подобная практика, вероятно, была типична для древнего делопроизводства и, учитывая его древность, могла послужить прямым образцом для составления списков погодных записей. Складывается следующая картина генезиса древней историографии. Первые писцы позднеурукской эпохи (3520/2815±85 14С до н.э.) и эпохи нулевой династии (3390–3160 до н.э.), по–видимому, еще не обладали индивидуальным самосознанием. Они вели хозяйственные записи и, может быть, сводили их в обобщенные регистрации. С появлением датированных текстов исторического содержания (I династия Египта, 3160–2930 до н.э.) практика сведения отдельных хозяйственных записей воедино была перенесена и на исторические регистрации, накопление которых совершенно стихийно привело к возникновению прототипа летописи. Хотелось бы подчеркнуть, что возникновение древнейшей историографии в этом случае возможно объяснить без привлечения гипотезы о сознательном изобретении письменной истории, поскольку время ее зарождения отвечает всего лишь самым первым проявлениям индивидуального самосознания вообще. В самом деле, логичнее считать, что поначалу возникла предметная форма, способная стать содержанием исторического самосознания, т.е. ранняя историография, а затем работа с этой предметной формой позволила представителям подразделения умственного труда открыть в ней воплощение социальной связи в истории. Прямым доказательством этой нашей гипотезе служит характер периодизации египтянами своей истории. В распоряжении создателей Палермских анналов были недатированные списки додинастических верхнеегипетских (предположительно), нижнеегипетских правителей и общеегипетских фараонов нулевой династии, а также датированные списки правителей I–IV династий. Критически мыслящий самосознательный историк современного типа, очевидно, начал бы историю единого Египта с нулевой династии, представители которой, по Палермскому камню, уже владели обоими венцами двух египетских царств, хотя и не были датированы. Однако египетские историографы пошли совсем иным путем. За основателя общеегипетского государства был признан первый датированный фараон списков, послуживших основой для Палермской летописи, — Хор Аха Мина, который выступил основателем I династии манефоновской традиции[117]. Следовательно, историческая концепция древнейших египетских историографов явилась механическим отражением стихийно сложившихся до них царских списков, а не результатом критических самосознательных усилий по осмыслению своей истории. Отсюда следует единственный возможный вывод: сперва появилась стихийно сложившаяся писаная история, а затем историческое самосознание, которое, слепо интериоризировав стихийно сложившийся исторический материал, в дальнейшем исходило из него как из данности. Содержание исторического самосознания появилось, таким образом, ранее него (в писаной истории), а затем стало отправной точкой генезиса исторической самосознательной способности человека. Как можно видеть, обстоятельства ранней египетской историографии хорошо согласуются с концепцией Дж.Джейнса о позднем генезисе человеческого самосознания. В шумерской историографии исходными были памятники, в принципе близкие египетским: списки правителей, датировочные формулы, эпический материал. “Царский список” состоит из последовательности местных династий: легендарных “допотопных” и в основном исторических из городов Киш, Урук, Ур, Акшак, Умма, Аккаде и др., дополненных династией кутиев. Заканчивался “Список” поначалу III династией Ура, возглавлявшей государство Шумера и Аккада (общемесопотамская монархия). Став основой исторического сознания шумерских историографов, этот материал внушил им определенную историческую концепцию, существо которой состояло в том, что династии “Царского списка” были последовательны и обладали сходным государственным статусом. Конкретнее, эта концепция привела к представлению, что общешумерская царственность, аналогичная статусу III династии Ура, последовательно переходила из города в город, от одной династии к другой. Как и в египетском случае, выросшее из содержания механически скомпонованного “Царского списка” историческое сознание, точно отражая “Список”, неточно отразило историческую реальность. Причем составителям “Царского списка”, наверное, был известен синхронизм двадцать третьего царя I династии Киша (Аги) и пятого царя I династии Урука (Гильгамеша), вытекающий из эпоса. Синхронизм означал, что названные династии не могли быть одинаково последовательными и общешумерскими. Отсюда следует, что создатели “Царского списка” не обладали критическим историческим самосознанием и слепо интериоризировали в качестве его основы подготовительный материал для “Царского списка”. В этом случае можно видеть параллель генезису исторического самосознания в Египте: наличное состояние писаной истории формировало начало ее осознания. Сказанное касается фактологической стороны проблемы. Кроме нее, с ранней историографией связана своя социально–философская проблематика. Стержнем ранних исторических памятников, как правило, выступал перечень правителей. Независимо от своего конкретного происхождения подобный перечень представлял собой зримое воплощение социальной связи, которая через вереницу посредников объединяла самых ранних правителей с позднейшими своими наследниками. Конечными пунктами названных памятников были династии крупных единых государств (общеегипетское государство, царство Шумера и Аккада III династии Ура), однако истоки царственности этих династий восходят к правителям более скромных государственных образований: в Египте это — нижнеегипетское и, вероятно, верхнеегипетское царства, а в Шумере — царства отдельных округ. В ранних исторических памятниках речь идет, таким образом, о том, что средства социальной интеграции, применявшиеся в малодифференцированном обществе (например, нижнеегипетском царстве или округе Киша), являются важнейшим наследием и достоянием, которые более дифференцированное общество (общеегипетское государство и царство Шумера и Аккада) сохранило для своей собственной интеграции. Подобная фактическая концепция раннеисторических памятников отвечает нашим представлениям о природе наследования социальной связи в истории. Среди сочинений, посвященных человеческой истории, можно выделить два основных методологических типа. С одной стороны, начиная с эпохи ранней цивилизации возникают и получают распространение исторические сочинения преимущественно описательной направленности. Объяснительная составляющая таких трудов никогда не выявляет собственно исторических закономерностей и ограничивается (там, где она есть) исключительно феноменологическим уровнем: сакральное происхождение царской власти (начиная с шумерского “Царского списка”), личность как двигатель исторических событий (мотив появляется в Египте, широко представлен у Геродота и др.). Другая группа сочинений исторической направленности, напротив, посвящена главным образом объяснению природы исторического процесса и отличается целенаправленным поиском исторических закономерностей. Речь идет о сочинениях философско–исторической традиции, среди создателей которой можно назвать Н.Макиавелли (1469–1527), Ж.Бодена (1530–1596), Ф.Бэкона (1561–1626), Дж.Вико (1668–1744), Ж.А.Кондорсэ (1743–1794), И.Г.Гердера (1744–1803), Г.В.Ф.Гегеля (1770–1831) и др. Последовательное появление этих двух стадий развития исторической мысли не представляется случайным при сравнении социально–исторических обстоятельств их возникновения. В эпоху раннецивилизованных государств социум поэтапно испытывал нарастание своей социальной дифференциации. В Египте исторический процесс сопровождался очевидным нарастанием социальной дифференциации следовавших друг за другом государственных образований. Он начался с создания двух царств — верхнеегипетского и нижнеегипетского, которые объединяли локальные социумы основного течения Нила и его дельты. Это были образования определенной степени социальной сложности, которая, однако, уступала степени сложности грядущего общеегипетского государства. Последнее, объединив Верховье и Низовье, стало гораздо более дифференцированным социальным организмом, состоящим из хозяйственно обособленных социумов Верховья и Низовья, специфика которых получила многочисленные отражения в структуре древнеегипетского общества и его идеологии. В Шумере наблюдалась довольно близкая картина. В раннединастический период (2900/2750–2315 до н.э.) страна была разделена на округи, в каждой из которых имелись свои институты управления. Ранняя царская власть в Шумере отвечала социальным образованиям слабой степени дифференцированности. Начиная с династии Аккаде (2316–2137 до н.э., на определенном этапе — Царство четырех стран света) и III династии Ура (2112–2003 до н.э., царство Шумера и Аккада) появляются образцы единого месопотамского государства, несравнимо более дифференцированного по сравнению с раннединастическими шумерскими округами. Общество на каждом новом этапе своей дифференциации, внешне проявляющейся в новых способах его интеграции (два египетских царства — общеегипетское государство, государства округ Шумера — царства четырех стран света и Шумера и Аккада, например), переставало быть тождественным самому себе, с точки зрения внутренней структуры. В этих условиях члены общества (главным образом, представители подразделения умственного труда) вставали перед проблемой: что представляет собой их социум, является ли он органичным продолжением своего менее дифференцированного и, значит, более социализированного состояния, или он представляет некий новый общественный организм, адекватность которого человеческому существу зримо отличается от состояния предшествующей эпохи. Судя по характеру ранних исторических памятников, их составители видели органичную связь прошлого менее дифференцированного состояния общества с современным себе более дифференцированным общественным состоянием. Следовательно, пусть бессознательно, первые историки отражали то обстоятельство, что архетип организации прошлой мало дифференцированной жизни по–прежнему применяется для интеграции нового более дифференцированного общественного состояния. Эти несколько отвлеченные суждения, неизбежные при социально–философском анализе, находят вполне конкретные исторические приложения. Царская власть в двух великих ближневосточных обществах (Египет и Шумер) отнюдь не была достижением их высокодифференцированных и, соответственно, интегрированных стадий развития в эпоху общенациональных государств. Строго говоря, у нас нет никакой уверенности, что царская власть была органично связана со структурой общенациональных государств. Их систематические распады (как в Египте, так и в Шумере) показывают, что дело обстояло именно так. В самом деле, царская власть в указанных странах была органичным достижением локальных, а не общенациональных государств: она появилась в Нижнеегипетском царстве и в отдельных округах Шумера (где титулатура далеко не всегда была собственно царской, что в данном случае не существенно) и изначально не рассчитывалась на более крупные социальные образования. Тем не менее, общеегипетское и общешумерские государства использовали древние институты царской власти, рассчитанные на микросоциумы. Следовательно, египетские и шумерские макросоциумы использовали для своей интеграции государственные институты, рожденные предшествующими им микросоциумами. Это, собственно, и означает, что социум использовал для интеграции своего нового дифференцированного состояния средства интеграции, рассчитанные на менее дифференцированное состояние. Как отмечалось выше, всякие более древние институты социальной интеграции были общеупотребительными в своих малодифференцированных социумах. Именно это их свойство общеупотребительности и позволяло им функционировать в более дифференцированных обществах, опередивших в развитии те условия, которые породили архетипы их интеграции (в данном случае, царскую власть). Можно заметить, что средства интеграции, применяемые социумом, нередко бывали древнее того дифференцированного состояния, которое они были призваны интегрировать. Так, предметная форма цивилизации (город — средство коллективного непроизводительного потребления сакрального, административного, жилищного и фортификационного типа) было древнее опредмечивающегося ею общества разделенного труда (примеры см. гл. II, 2–3), а царская власть общенациональных государств Египта и Шумера была древнее этих социальных образований. Причина такого положения вещей заключалась в том, что архетипы, порожденные менее дифференцированным обществом, имели более выраженный интегративный характер, что объясняет их живучесть на более дифференцированной стадии социума. Ранние историографы, проводя линию родства между современной себе царской властью и царственностью более древних эпох, не только отражали реальную социальную связь в истории, но и, ограничиваясь этой социальной связью, интегрировали осознание своей социальной реальности при помощи древнего архетипа. Если царственность (во всяком случае, централизованное правление) была органичным средством отражения целостности локального общества типа шумерских округ, то применительно к общенациональному государству это было далеко не так. Царственность общенационального государства (и Египта, и Шумера) не являлась его порождением, а наследовалась им из прошлого (отдельная область навязывала свою царственность всей стране). Следовательно, отражение общенационального социума через призму царственности (типичный метод первых историографов) означало использование понятия прошлого менее дифференцированного состояния (отдельной округи или нома) для интеграции представлений о новом более дифференцированном состоянии общества (общенациональном). Здесь наблюдается, таким образом, типичная социальная связь в истории, перенесенная из сферы материальной жизни в сферу идеологии. Поскольку такая идеологическая направленность является типичной для ранней историографии, можно сделать вывод о ее генезисе. В генезисе историография, на наш взгляд, представляла собой использование средств, адекватных прошлому менее дифференцированному состоянию общества, для отражения его нового более дифференцированного состояния. Отсюда проистекал шумерский тезис о том, что царственность, сошедшая с небес в раннединастическую эпоху (или “до потопа”), закономерно поступила в конце концов в распоряжение царства Шумера и Аккада. Проще сказать, шумерская историография отражала царство Шумера и Аккада так, словно это была округа, вроде Киша, а понятие царской власти, которая была там и там, служило средством мотивации такого отождествления. Реальные существенные отличия названных социальных образований при этом игнорировались (или не были известны историографам, что далеко не обязательно, см. выше). Генезис другой более поздней формы исторического самосознания — философии истории — может быть связан с похожими социально-историческими условиями. Хронологически начала современной светской философии истории (см. выше) совпадают с концом первого этапа современного демографического взрыва в Западной Европе (XI — середина XVI в.). Это демографическое событие, по нашей гипотезе, послужило предпосылкой промышленной революции и очередного этапа общественного разделения труда, в результате которого западноевропейское общество претерпело значительную социальную дифференциацию. Начало этого процесса (появление наемных рабочих и буржуа в Италии) в общем синхронно появлению очень ранних начал философии истории, которые, следуя за распространением капиталистических отношений[118], последовательно проявляются в Италии, Франции, Англии и Германии. В этой связи возникает вопрос: почему дифференциация западноевропейского общества сопровождалась появлением новой западноевропейской формы осмысления истории? Если мы сравним два последовательных состояния западноевропейского общества — позднефеодального и раннекапиталистического, то, при социально- философском взгляде на них, первым делом бросаются в глаза их различные формы социальной дифференциации, выражающиеся в измененной классовой структуре, в новых экономических отношениях между подразделениями труда, в новациях групповых интересов общественных групп и т.д. Наблюдая эти исторические новшества, социально-исторически ориентированный мыслитель интуитивно должен был чувствовать перемены в течение исторического процесса, произошедшие на рубеже феодализма и капитализма. Наблюдатель этих исторических перемен вставал перед проблемой исторической преемственности феодального и буржуазного общества. Наряду с определенными внешними признаками такой преемственности (многочисленные пережитки феодализма) имелись не менее весомые признаки того, что между феодальным и буржуазным обществами существовал разрыв. Связь этих двух стадий развития общества совершенно не поддавалась описанию средствами традиционной военно–политической историографии. В этой связи перед основателями философии истории стояла задача найти связь между старым малодифференцированным феодальным обществом и новым высокодифференцированным капиталистическим. С этой задачей они в полной мере, по–видимому, не справились, однако направление их поисков можно было бы предсказать. Два объекта разной степени дифференциации (феодализм и капитализм) на уровне явлений имеют между собой мало общего. Следовательно, их общие черты могут быть обнаружены лишь на уровне сущностей, сходство которых указывает на присутствие их закономерной связи в истории. Таким образом, первые философы истории в поисках общности своих объектов наблюдения (феодализма и капитализма) неизбежно должны были прийти к попыткам установления общеисторических закономерностей очень высокого уровня абстракции. Как известно, поиски стержневых закономерностей течения исторического процесса являются отличительной чертой философии истории, по крайней мере, начиная с Дж.Вико. Философ истории, постулируя закономерную историческую связь двух обществ разной степени дифференциации, фактически отождествляет их сущности (это выражается в убеждении в существовании общеисторических закономерностей). Но отождествляя их сущности, он использует прежнее менее дифференцированное состояние социума (в котором сущность всегда выражена явнее) для описания и понимания более дифференцированного состояния социума (в котором сущность теряется среди своих многообразных проявлений). Следовательно, теоретическая деятельность философа истории, абсолютно независимо от его субъективных намерений, в первую очередь идеологически отражает классическую социальную связь в истории. В этом отношении философы истории на новом уровне повторили путь первых историографов. 3. СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ Апофеозом развития вторичной структуры раннецивилизованного общества стало возникновение научного сознания. При объяснении начал научного знания необходимо иметь в виду то обстоятельство, что сущности, лежащие в основе древнейших наук, судя по всему (и вопреки ожиданию), возникли независимо. Это видно, во–первых, из очень раннего сосуществования различных отраслей научного знания и, во–вторых, из невозможности построить генеалогическое древо дифференцирующихся наук: складывается впечатление, что они возникали бессистемно и зачастую вне видимой связи друг с другом. В этой связи представляется целесообразным предпослать обзору состояния раннего научного знания некоторые общефилософские соображения относительно генезиса отправных пунктов научного мировоззрения. В основе функционирования всякого научного знания лежит способность открывать и предсказывать сущности. Сущности представляют собой устойчивые черты явлений и в этом отношении сближаются с понятием закономерности, отражающей устойчиво повторяющиеся связи вещей. Всякое явление обладает, помимо существенных черт, целым набором неповторимых случайных особенностей, которые количественно преобладают. На этом фоне существенные черты явлений теряются и фактически становятся эмпирически ненаблюдаемыми. Более того, характерные сущностные черты явлений могут встречаться в составе довольно разнородных явлений, что приводит к формированию представлений о сущностях весьма глубокого порядка, лежащих в основе широкого круга явлений и их отдельных свойств. Если различия между сущностями одной и той же глубины носят содержательный (качественный) характер, то различия сущностей разной глубины из одной предметной области носят преимущественно количественный характер при условии, что можно построить иерархическую систему этих сущностей. Строго говоря, тезис о ненаблюдаемости сущностей является философской абстракцией, и проблема эмпирической ненаблюдаемости сущностей еще ждет конкретнонаучного разрешения. Возможные поиски в этом направлении представляются нам следующими. Для понимания особенностей восприятия человеком действительности большое значение имеют приложения количественной теории информации К.Э.Шеннона, основы которой мы излагали выше (гл. I, 2). На наш взгляд, важнейшим выводом из этой теории является тот, из которого следует, что человек воспринимает как информативное только сообщение, содержащее новые сведения. Этот вывод с полным основанием можно использовать для объяснения проблематики наблюдения сущностей. Между сущностями различного уровня из одной предметной области существуют главным образом количественные различия. Все более глубокие сущности имеют все меньшее представительство в явлениях все более широкого круга. Например, понятие вещественности представлено свойством ощутимости в массе объектов материального мира. Более частные понятия твердости, мягкости и т.п. богаче представлены в мире явлений, но уже в ограниченных их областях. И так далее. Эта филиация сущностей отражена в известной обратной зависимости между объемом и содержанием понятий. Для нас же важно, что сущности разной степени глубины (объема) различаются количественно, и, следовательно, проблематику их наблюдаемости можно исследовать на примерах сущностей ограниченного объема и минимальной глубины. Предположим, что между этими сущностями и представляющими их явлениями никаких различий, кроме метафизических, нет. При этом допущении можно конкретизировать различные возможности наблюдения сущностей и явлений. В составе явлений одного класса имеется ограниченный набор повторяющихся свойств, отражающих сущность, лежащую в основе данного предметного класса, а также неограниченный набор неповторимых случайных свойств, не имеющих прямого отношения к отражению рассматриваемой сущности. Единичный наблюдатель, подчиняющийся принципам теории информации, при регистрации явлений данного класса окажется в своеобразном положении. Существенные повторяющиеся черты явлений он зафиксирует как единичную констатацию, поскольку, по теории информации, группа повторяющихся сообщений, отражающих существенные черты явлений, может быть представлена только одним информативным сообщением. Их дубли, с точки зрения теории информации, не будут содержать информации, поскольку информативными являются только новые сведения. Напротив, многочисленные случайные проявления сущности наблюдатель каждый раз зарегистрирует как отдельные самостоятельные информативные события именно потому, что они неповторимы (и, следовательно, не отражают сущности). В итоге наблюдатель получит длинную серию регистраций явлений данного класса, но лишь одна из этой серии регистрация будет непосредственно отражать сущность этих явлений. В результате существенная регистрация (отражающая сущность) совершенно потонет в массе неповторимых регистраций, которые не будут отражать сущность. В приведенном примере совершенно очевидно, что, в силу особенностей теории информации, сущность явлений данного класса окажется практически ненаблюдаемой, причем причины этого обстоятельства будут носить не абстрактно метафизический, а конкретно научный характер. Эти информационные трудности наблюдения сущностей имели место в древности и продолжают существовать и сейчас, только в современной науке и философии появились методы, позволяющие обходить информационные ограничения наблюдений сущности. Однако из истории философии и науки определенно известно, что эти методы сложились уже на стадии формирования довольно развитого теоретического знания (греческие философия, математика, астрономия, география, физика и др.). Следовательно, первые сущности ранних наук, по–видимому, возникли стихийно, в отсутствие целенаправленной методологии своего обнаружения. В этой связи возникает закономерный вопрос: каким образом социум обошел информационные трудности обнаружения сущностей и выявил тот начальный их набор, который стал основой функционирования ранней системы научного знания. Для ответа на этот вопрос нам придется вспомнить несколько неожиданное обстоятельство, |
|
© 2000 |
|