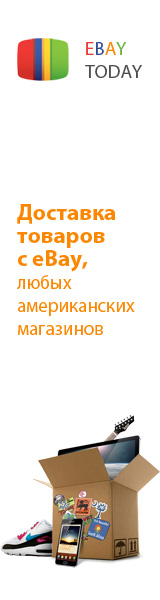|
РУБРИКИ |
Происхождений цивилизации |
РЕКЛАМА |
||
|
Происхождений цивилизациидействительное разделение труда, предполагающее отделение умственного труда от физического. Определенные начальные признаки общественного разделения труда возникли, вероятно, одновременно в неолите, что затрудняет построение стадиальной схемы отпочковывания друг от друга отдельных подразделений труда. Ясно только, что они институциализировались в эпоху ранних цивилизаций. Природу этого процесса можно представить, проанализировав структурные особенности доцивилизованных и цивилизованных обществ, взятые с точки зрения демографической статистики и истолкованные в некоторых прикладных понятиях теории вероятностей. Точнее, речь пойдет о статистическом законе больших чисел. Смысл закона больших чисел в упрощенном изложении состоит в следующем. Допустим, мы производим какой-то опыт, исход которого может быть тем или другим: например, подбрасываем монету (может выпасть “орел” или “решка”), игральную кость (может выпасть одна из ее шести граней) или анализируем события, исход которых ограничен несколькими равновероятными вариантами. Исходя из количества возможных равновероятных исходов опыта, мы можем предсказать, как часто будут происходить исходы опыта, если повторять его много раз. Так, монета в 50% случаев предположительно выпадет “орлом” и столько же “решкой”, а игральная кость примерно в 17% случаев выпадет одной из своих граней и т.д. Такие предсказуемые вероятные исходы опытов, предполагаемые заранее, являются математическим ожиданием исхода опытов. Согласно закону больших чисел реальный исход очень большого количества опытов (если их итог предсказуем с точки зрения вероятности) будет мало отличаться от его математического ожидания. Теория вероятностей позволяет математически предсказывать и разновероятные исходы опытов, если их возможные варианты заранее известны. В частности, из закона больших чисел следует, что, если опыт повторять 10000 раз, то реальный исход будет отличаться от математического ожидания менее, чем в 1% случаев, что статистически составляет пренебрежимо малую величину. Иными словами, поведение какого–то вероятного события, если оно повторяется 10000 раз, становится практически предсказуемым, т.е. начинает подчиняться не статистической, а по существу динамической (однозначно предсказуемой) закономерности. Если повторять опыт больше 10000 раз, согласие его реального исхода с математическим ожиданием будет усиливаться, но на пренебрежимо малые доли процента, а если опыт повторять менее 10000 раз, расхождение его реального исхода с математическим ожиданием превысит один процент и будет тем сильнее, чем меньше опытов мы произведем. В теории вероятностей говорят не о должном согласии исхода опытов с их математическим ожиданием, а лишь о вероятном, однако в данном случае это не существенно. Для проявления закона больших чисел не обязательно производить один и тот же опыт диахронически (последовательно во времени). Если мы возьмем совокупность из 10000 объектов, варианты поведения которых статистически предсказуемы, то одновременное поведение этих объектов будет также предсказуемо. В частности, если рассмотреть популяцию из 10000 человек или более, зная заранее возможные стереотипы поведения этих людей и частоты, с которыми варианты поведения проявляются, можно очень точно предсказать, как поведет себя эта популяция в каждый конкретный момент времени: поступки отдельных людей могут варьироваться, но популяция в целом будет вести себя вполне предсказуемо (здесь мы отвлекаемся от таких тонкостей, как количественный набор стереотипов поведения и т.д.). Соответственно, чем меньше будет человеческая популяция по сравнению с десятитысячной, тем хуже будет выполняться в ней закон больших чисел и менее предсказуемым станет поведение ее членов. (Собственно, закон больших чисел будет выполняться по–старому, но расхождение между реальными исходами опытов и их математическим ожиданием станет усиливаться; говоря для краткости о “нарушениях закона больших чисел”, мы имеем в виду только последнее обстоятельство.) Таким образом, упрощенно говоря, статистическое различие между маленькой человеческой популяцией (заметно меньше 10000 человек) и крупной (в районе 10000 человек и больше) состоит в том, что поведение маленькой популяции не предсказуемо точно, а поведение крупной фактически подчиняется динамическим закономерностям и может быть предсказано практически однозначно. Следовательно, предсказуемость или стереотипность поведения человеческих популяций имеет под собой демографические основы, важные для понимания предцивилизованной и цивилизованной эпох. Население палеолитических и мезолитических общин не превышало полутысячи человек (например, Абу Хурейра, Сирия, мезолитическая культура позднего натуфа, начиная с 12800 или 1115014С, население — 250±50 человек), а отличительной чертой таких общин была однородная социальная структура, лишенная признаков общественного разделения труда. Демографическое состояние общин палеолита–мезолита показывает, что поведение их населения не подчинялось действию закона больших чисел, т.е. теоретически было непредсказуемым (асоциальным), и оно действительно могло бы оказаться таким, если бы палеолитические и мезолитические социумы были лишены первичных и вторичных общественных структур. Отсюда напрашивается вполне законный вывод. Однородная социальная структура была призвана “искусственно” согласовывать и нивелировать поведение своих первобытных носителей, поскольку без социальной структуры их общественное поведение не могло быть предсказуемым по статистическим причинам. Соответственно, однородная социальная структура первобытности исключала появление общественного разделения труда. Население неолитических общин Ближнего Востока не выходило за пределы 5000 человек (Абу Хурейра, докерамический неолит В, 10790–9190/9400–8000 14С, население — 2500±500; Чатал–Хююк — 4000±2000 человек; и т.п.), а это значит, что поведение жителей таких общин также еще не подчинялось действию закона больших чисел, хотя уже приближалось к условиям его реализации в крупнейших социумах (Чатал–Хююк). Демографическая ситуация в неолитическом обществе при ее статистическом истолковании позволяет предполагать, что это общество в целом оставалось еще однородным, однако в нем уже не было первобытных препятствий для появления начал дифференциации, выражающейся в выше отмеченных признаках зарождающегося разделения труда. В цивилизованную эпоху появляются общества, городское население которых приближается к рубежу в 10000 человек и может даже превосходить это число (например, население Архаического Ура (Шумер, раннединастический период I, 2750–2615 до н.э., округа города Ура, ок. 90 км2) составляло ок. 6000 человек: 4000 в Уре, 2000 в городках Муру и Убайд, две сотни на хуторах; население округи Шуруппака, раннединастический период II, 2615–2500 до н.э., — не менее 15000–20000 (число мужчин — 6580, 8970), причем более половины его было связано с храмом Шуруппака; Нгирсу, столица Лагаша (с населением в 100000 человек) в Шумере, раннединастический период III, время Энентарзи–Лугальанды, ок. 23402318 до н.э., 17500±2500 жителей; Мохенджо–Даро, 47104250, — 40000 жителей; Кносс и его гавань [(Крит, 17001580 до н.э.): население — 100000 человек; и т.п.][79]. Поведение представителей таких сообществ начинает полностью подчиняться действию закона больших чисел и становится существенно предсказуемым и согласованным по статистическим причинам. Нужда в однородной социальной структуре в таких обществах исчезает, что создает основу для социальной дифференциации. Общий первобытный стереотип поведения оказывается здесь излишним и общество получает возможность к разделению на социальные группы. Природа последних предопределена спецификой основных отраслей господствующего производящего хозяйства. Поэтому в цивилизованной истории, по–видимому, никогда не существовало общественных подразделений труда охотников и собирателей, что не исключало, конечно, существования соответствующих промыслов. Основу общественных подразделений труда цивилизованного общества составили профессиональные группы земледельцев–скотоводов, разного рода ремесленников, купцов, служителей культа и администраторов. Профессиональная дифференциация общества означала его внутреннюю специализацию, что резко повышало эффективность взаимодействия социума с окружающей природной и социальной средой. Оптимизацию взаимодействий с природой осуществляли профессиональные группы земледельцев, скотоводов, рыбаков, ремесленников, с окружающими обществами — группы купцов, администраторов, но основной функцией последних (как и служителей культа) была задача регуляции взаимодействий между профессиональными группами внутри общества. На стадии цивилизации социум приобрел, таким образом, весьма дифференцированную структуру и должен был выработать средства ее интеграции. Процесс общественного разделения труда, по определению, является для социума центробежным, дезинтегративным. В самом деле, демографически крупный социум способен подчиняться действию закона больших чисел. Однако отдельные профессиональные группы, количественно уступая общей численности социума, по–видимому, уходят из–под действия закона больших чисел. Следовательно, в каждом подразделении труда должны были возникнуть нормативы поведения, делающие функционирование профессиональных групп предсказуемым. Иными словами, в каждом подразделении труда развивались собственные стереотипы профессионального поведения со своими средствами и целями. Но в этом случае совместное существование подразделений труда нуждалось в определенных внешних интегративных началах. Поскольку профессиональное разделение общества основывалось главным образом на дифференциации средств коллективного производительного потребления, нейтрализация социально–дезинтегративных последствий этого разделения должна была быть достигнута средствами коллективного, но непроизводительного потребления. Основным средством коллективного непроизводительного потребления является поселение городского типа. Город представляет собой весьма стабильное материальное образование, в инфраструктуре которого объединены предметные формы существования отдельных подразделений труда[80]. В раннем городе — это различные хранилища сельскохозяйственной продукции; мастерские ремесленников, места приготовления пищи (хлебопекарни и т.п.); рынки и лавки, опредмечивающие деятельность торговцев; культовые и административные строения, являющиеся предметной формой функционирования деятелей умственного труда; наконец, жилища горожан, заключенные нередко в цепь фортификационных сооружений, также служат целям интеграции дифференцированного общества. Уже на ранних стадиях существования городов в их метаструктуру включены некоторые предметные формы сельскохозяйственной деятельности, находящиеся вне города, но тесно связанные с ним: это поселения сельского типа, ирригационные сооружения и т.п. Все эти предметные конструкции не были изобретены в цивилизованную эпоху, поскольку их элементы развивались с неолитического времени. С точки зрения здравого смысла, архитектурные и технические сооружения ранних городов и связанных с ними сел представляются средствами благоустройства жизни и деятельности селян и горожан, и генезис этих конструкций как будто не нуждается в специальном объяснении. В действительности же это далеко не так. В удобствах нуждались и люди палеолита и мезолита, однако городской культуры у них не было. В неолите- энеолите появляются элементы городской культуры (Иерихон; Чатал–Хююк; Мерсин), однако целостной структуры городского типа не возникает. Сравнение демографического и социального состояния людей доцивилизованной и цивилизованной эпох заставляет искать социально-философские средства объяснения природы цивилизации, дефиниция которой сопряжена с рядом методологических трудностей[81]. На наш взгляд, цивилизация (город) представляет собой предметную форму структуры общества разделенного труда, призванную жестко связать между собой жизненные условия весьма разнородных подразделений труда в едином городском конгломерате, что выполняло важнейшую социально–интегративную функцию для общества, расщепляемого разделением труда[82]. Цивилизация (город) — это, по определению, средство коллективного непроизводительного потребления (если отвлечься от ряда производительных структур). Как таковое, город образовал своеобразную матрицу социального организма, диктующую своим обитателям социально–интегративные формы существования. Важно еще раз подчеркнуть, что социально-дезинтегративное разделение труда основывалось на последствиях самодвижения средств коллективного производительного потребления. Поэтому закономерно, что нейтрализация этих социально-дезинтегративных последствий основывалась на городской цивилизации как средстве коллективного непроизводительного потребления, неспособном к самодвижению. В самом деле, структура города с протогородских неолитических времен до наших дней, в сущности, совершенно не изменилась. Конечно, город вырос до размеров мегаполиса (в известных случаях) и его техническое оснащение качественно изменилось, однако истоки этого изменения лежат отнюдь не в самодвижении городской структуры, а в самодвижении средств коллективного производительного потребления, социально-дезинтегративные следствия которого (рост разделенности труда) успешно нейтрализовались матрицей городской цивилизации. Иными словами, внешне город, конечно, всегда служил просто обиталищем цивилизованного социума, но его внутренняя сущность диктовалась свойственной ему природой средств коллективного непроизводительного потребления, в чем город был сродни вторичным общественным структурам, также основанным на различных средствах коллективного непроизводительного потребления, что объясняет известное родство природы цивилизации (городской культуры) и культуры вообще (вторичных общественных структур). Материальные средства внутренней социальной интеграции цивилизации распадаются на две основные группы явлений, состоящих в генетической связи. Первая группа интегративных феноменов связана с предметной формой структуры цивилизованного общества, которая воплощена в материальных образованиях поселения городского типа. Как выше отмечалось, инфра– и метаструктура города является прямым предметным воплощением структуры цивилизованного общества разделенного труда. Это предметное воплощение призвано поддерживать целостность социума, а потому отличается известной консервативностью. Такой социально-консервативной функции хорошо отвечают материальные средства коллективного непроизводительного потребления, представленные человеческими жилищами, производственными, торговыми, культовыми, административными и фортификационными сооружениями. Общество, обитающее в рамках подобной предметной структуры, должно было испытать вполне определенные организационные трансформации. Дело в том, что древнее человеческое общество сохраняло организационные структуры, генетически связанные с универсальными формами организации сообществ высших приматов (см. гл. I, 2). Так, у нас нет оснований отрицать, что основные формы кровно-родственных отношений первобытных людей (эндогамия и экзогамия, матрилинейность и патрилинейность) сохраняли преемственность с соответствующими аналогами, известными у высших приматов. Отметим также, что в ранних цивилизованных обществах имелись пережитки первобытных кровно–родственных отношений. В древнем Египте практиковались внутридинастические браки фараонов на своих сестрах (система просуществовала до конца греческой династии Птолемеев), что справедливо рассматривается как пережиток эндогамии (браки внутри родственной популяции). Такие же пережитки были характерны для царских семей Элама[83]. Это позволяет предполагать, что в предцивилизованную эпоху человеческие общины могли обладать определенным набором вариантов кровно-родственных отношений, истоки которых уходили в питекоидную эпоху, т.е. во времена наших обезьяноподобных предков (австралопитек афарский). Такое положение вещей было достаточно закономерным. Палеолитические и мезолитические общины основывались на потребляющей форме хозяйства, а в неолитическую эпоху элементы потребляющей экономики (охота и собирательство) образовывали значительную составляющую в хозяйственном укладе, содержащем уже признаки земледелия и скотоводства. Сообщества охотников и собирателей находились в экологическом равновесии со средой, а локальный уровень ее биопродуктивности благоприятствовал какому-то определенному варианту кровно–родственных отношений, свойственных приматам (матрилинейный эндогамный промискуитет, матрилинейная экзогамия, патрилинейная иерархическая эндогамия и некоторые другие варианты, включая парную семью и пр.). Не исключено, что ближневосточные обитатели субтропиков с их значительной биопродуктивностью могли обладать матрилинейными кровно–родственными структурами, в то время как их соседи в менее продуктивных регионах (например, праегиптяне в пустыне Негев) имели скорее склонность к патрилинейной иерархической эндогамии (с тенденцией к организации гаремов), послужившей архетипом организации, вероятно, традиционных семейных отношений египетских фараонов (патриархальная гаремная семья с элементами эндогамии). Центрально–семитские племена, переселившиеся из Леванта в пустынные районы Аравии, где низкая биопродуктивность благоприятствовала патрилинейной гаремной структуре кровно–родственных отношений, усвоили именно такую организацию, доставшуюся в наследство историческим арабским племенам. Протоэламиты, обитавшие в субтропиках Восточной Месопотамии, имели дело с относительно высокобиопродуктивной экосредой, благоприятной для матрилинейной эндогамии. Кровно–родственные традиции в царских семьях Элама (браки на сестрах и левират, т.е. женитьба на вдове брата, что одновременно свидетельствует об эндогамии и матрилинейности) сохраняли преемственность с вероятными кровно- родственными обычаями протоэламитов. Шумеры доцивилизованной эпохи уже имели, возможно, патриархальный уклад жизни[84], который должен был развиться в регионе с меньшей биопродуктивностью среды, чем та, что была свойственна Южной Месопотамии, где шумеры без признаков местного развития появились уже на стадии древнего керамического неолита. В Южной Месопотамии шумерам предшествовал народ “прототигридского” или “бананового” языка, послужившего субстратом для языка шумеров, откуда следует, что шумеры не были аборигенами Южного Двуречья. С установлением господства сельского хозяйства в экономике экологическая зависимость цивилизующихся общин от окружающей экосреды сокращалась. В этих условиях сохранение прежнего разнообразия кровно- родственных отношений было невозможно, и в принципе ранние цивилизованные общества, обладающие сходно производительным хозяйством, должны были прийти к похожим кровно–родственным отношениям и общественным структурам в целом. Носители ранних цивилизаций жили в стационарных городах, структура которых служила средством регламентации их жизни. Оседлые городские сообщества отличаются от первобытных сельских общин резким ограничением своего выбора образа действия: он практически целиком декретируется структурой городского образа жизни. От склонных к миграциям первобытных общинников ранние носители цивилизации отличались, таким образом, тем, что их городской образ жизни в чем-то напоминал обитание в неволе (собственно, в условиях ограничения свободы выбора образа действия: привязка к местности, однообразные занятия, снижение роли стереотипа поведения, связанного с естественной добычей пищи типа охоты или собирательства). Из наблюдений над приматами в неволе известно, что ограничение своей свободы, абсолютно независимо от наличия пищи, они воспринимают как попадание в малопродуктивный пустынный биотоп и ведут себя в соответствии с законом Дж.Крука (см. гл. I, 2), т.е. начинают конкурировать из–за пищи (несмотря на то, что ее хватает) и организуют патрилинейные иерархические структуры сообщества. Приматы в данном случае реагируют на отсутствие постоянного свободного доступа к источникам корма, что действительно эквивалентно условиям малопродуктивного биотопа или биотопа, в котором доступ к пище ограничивают хищники (ситуация с павианами в открытой саванне). Человеческое поведение при переходе к жизни в ранних городах столкнулось с аналогичной проблемой и можно было бы ожидать, что типичными кровно-родственными отношениями в городской цивилизации станут патрилинейные, а общегородская социальная структура приобретет иерархические черты. Именно так и произошло в условиях ранних цивилизаций. В обыденной жизни Египта, Шумера и Элама матрилинейность была элиминирована (если допускать, конечно, ее существование ранее — например, в Эламе). Добавим, что в истории вообще не известно ни одной матриархальной цивилизации. Кроме того, социальная организация цивилизованных обществ стала вполне иерархичной и ориентированной на перерастание в классовое общество. На первый взгляд может показаться, что иерархическое устройство раннецивилизованного общества было удачным изобретением для регуляции экономических и общесоциальных взаимоотношений подразделений труда. Такая функция иерархической общественной структуры действительно существовала, однако объяснение генезиса социальной иерархии из этих нужд представляется неисторичным. В самом деле, нет никаких оснований утверждать, что иерархия в социальной организации является новацией цивилизованной эпохи, поскольку элементарные аналоги иерархического устройства сообщества известны у приматов в малобиопродуктивных биотопах, в биотопах, где добыча пищи осложнена присутствием хищников (что эквивалентно малопродуктивности — упоминавшаяся ситуация в открытой саванне), а также в неволе (типологический аналог городских условий с вышеприведенными оговорками). Следовательно, у первобытных людей в соответствующих экологических условиях начала иерархической организации вполне могли присутствовать еще до цивилизации. Кроме того, теоретически вероятные взаимоотношения между подразделениями труда в принципе должны были бы быть отнюдь не иерархическими. Так, К.Маркс логично предполагал, что отношения между подразделениями труда базируются на обмене опредмеченной деятельностью[85], способном стать основой экономических и социальных отношений. Если бы такая модель реализовалась, мы имели бы раннюю цивилизацию с развитым внутренним обменом. В действительности же сколь–нибудь значительный товарообмен в Шумере отсутствовал[86], а экономические отношения между подразделениями труда, как и в Египте, носили распределительный централизованный характер. Следовательно, иерархия общественных групп была не только древнее разделения труда, но и наложилась на последнее несколько искусственно. Вероятно, социальная иерархия возникла в цивилизации по вышеуказанным поведенческим причинам независимо от генезиса разделения труда и наложилась на него в целях социальной интеграции, поскольку делала взаимоотношения профессиональных групп централизованными (имеются довольно подробные сведения о централизованной регламентации поведения представителей различных отраслей производства и других родов деятельности в Лагаше, Шумер, времени Энентарзи и Лугальанды, ок. 2340–2318 до н.э.[87], где существовала патриархально ориентированная общественная структура). Социально–интегративная природа цивилизации объясняет не только сущность ее предметной городской структуры, но и социально–экономическое использование патриархальной иерархической организации, имеющей неэкономическое происхождение. По форме эта организация имела древнее этологическое (естественное поведенческое) происхождение. Однако в условиях цивилизованного общества, потенциально дезинтегрируемого специализацией труда, иерархическая патриархальная структура стала функционировать за рамками кровно–родственных отношений и обусловила конкретный централизованно–распределительный характер экономических связей подразделений труда. В данном случае в объяснении нуждается не сам генезис иерархической структуры, а ее социально–экономическое приложение, причина реализации которого видна в пригодности иерархической структуры для социально–интегративных функций. Будучи социально–консолидирующим феноменом и реализуя свои интегративные свойства стихийно, конкретная цивилизация должна была вовлекать в сферу своей активности и окружающие социумы, поскольку основным свойством цивилизации была тенденция объединения людей тем или иным способом. В этой связи немалый интерес представляет торговая активность ранних цивилизаций. Совершенно аналогично объясняется и другая форма внешней активности, которую с поправкой на отдаленность эпохи можно назвать внешнеполитической. Потенциально ранние цивилизации Египта, Шумера, Элама и Хараппы были вполне автаркичны, поскольку все жизненно необходимое с избытком производили на месте. Так что, с рациональной точки зрения, внешнеторговая и внешнеполитическая деятельность для них была практически не обязательна (единственное исключение составлял импорт меди, олова и леса, однако нет основания утверждать, что благосостояние ранних цивилизаций было немыслимо без этих товаров). В действительности все происходило не в соответствии с рациональными установками, и древний Египет, Шумер и Элам не только вели обширную внешнюю торговлю, но очень рано предпринимали акции военно-внешнеполитического свойства. Подчеркнем, что ни грабеж чужих богатств, ни территориальные притязания нельзя, с точки зрения здравого смысла, объяснять удовлетворением жизненно важных нужд ранних цивилизаций. Таким образом, ранняя цивилизация, получив в наследство от первобытного общества начала производящего хозяйства, ремесла, торговли, архитектуры и предпосылки иерархической организации общества, поместила все эти общественные достижения в определенную социально–интегративную матрицу, что обусловило возможность их дальнейшей специализации и развития без ущерба для целостности социума. Исходным проводником социальной интеграции для цивилизации послужили средства коллективного непроизводительного потребления, выступающие в форме поселения городского типа. Принципиальная схема планировки города, содержание его инфраструктуры и метаструктуры были заложены в эпоху ранней цивилизации и существуют по сей день (административные, культовые, культурные, производственные, торговые сооружения, объединенные фортификационными конструкциями и дополненные различного рода предметными формами сельского хозяйства). Генезис городской структуры объясняется ее природой, понимаемой как предметная форма общества разделенного труда. Будучи социально–интегративным фактором, ранняя цивилизация закономерно направляла свою консолидирующую активность вовне, что вело к формированию целостных государств различной степени сложности. Образование государственных организмов, выходящих далеко за пределы отдельных городов, таким образом, является прямым следствием реализации потенций цивилизации, понимаемой как городское образование. В этой связи нет оснований отказываться от принятой нами дефиниции ранней цивилизации, поскольку существование цивилизованных государств является прямым следствием возникновения локальных городских цивилизаций и объясняется из особенностей их социально–интегративной природы. 3. ДИНАМИКА РАННЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Классические цивилизации типа древнего Египта и Шумера не исчерпывают вариантов реализации общества производящего хозяйства. Некоторые связанные с ним социумы не создали подлинных городских цивилизаций, но породили значительные предметные формы, обнаруживающие существенные социально-интегративные аналоги с ранними цивилизациями городского типа (мегалитическая культура Западной Европы). В материковой Европе городские цивилизации появляются позже, чем на Ближнем Востоке. Причина европейского отставания в развитии по сравнению с Передней Азией имеет, вероятно, демографическое и социально–экономическое объяснение. Ближневосточный демографический взрыв происходил в условиях относительно высокобиопродуктивной среды, что создавало предпосылки для производящего хозяйства и цивилизованного общества. В менее биопродуктивной Европе демографические процессы шли медленнее, а производящее хозяйство было, вероятно, интродуцированно из Азии. Местные европейские природные условия давали почву только для его весьма медленного развития. Одним из древнейших протогородов на европейском континенте была Лерна III (Пелопоннес, Греция, древнеэлладский период II, ок. 5000–4770 лет назад). Это поселение и целый ряд других, родственных ему, были разрушены в результате вторжения носителей более примитивной культуры (древнеэлладской III, около 4770–4540/4150–3950), как полагают[88], говоривших на индоевропейском языке анатолийской группы (хетто–лувийские). В историческое время достоверно известным хетто–лувийским народом в Греции были карийцы[89], поэтому не исключено, что древнеэлладская культура III принадлежала именно им. Два века спустя Греция пережила еще одно вторжение, разрушившее остатки протоцивилизации типа Лерна III. В Лерне новое население появилось незадолго до даты 4480 (3898±117 14С) лет назад и принесло среднеэлладскую культуру средней бронзы, не слишком отличающуюся от культуры древней бронзы предположительных карийцев. В лингвистическом отношении среднеэлладское население, возможно, было уже греческим. В эпоху среднеэлладского периода III — позднеэлладского периода I–II (1700–1400 до н.э.) греки создали начала своей микенской цивилизации, которая пережила расцвет в позднеэлладский период III (1400–1100 до н.э.). Между микенской цивилизацией и протоцивилизацией Лерны III, Тиринфа (древнеэлладский II) и др. прямой исторической связи не существовало. Однако, поселившись на территории, обладающей древними культурными традициями, и став соседями цивилизаций Крита и Хеттского царства (в Малой Азии), греки подверглись определенному влиянию. У догреческого населения они позаимствовали планировку здания в форме мегарона. Художественное решение Львиных ворот Микен (1250 до н.э.) было подсказано оформлением ворот хеттской столицы Хаттусас, которую ахейцы (микенские греки) посещали. Свое линейное письмо В ахейцы получили от минойцев (критян), приспособив их линейное письмо А к нуждам греческого языка (1400–1200 до н.э.). Микенское искусство в определенных чертах продолжало критские традиции[90]. Сравнительно поздний возраст микенской цивилизации и ее культурные связи с более древними очагами средиземноморских цивилизаций как будто подсказывают мысль о производном характере цивилизационного процесса в микенской Греции. Однако социально–исторические факты (в том числе и поздний возраст микенской цивилизации) при их социально-философском истолковании не подтверждают мысль о вторичности цивилизации ахейцев. Если бы греки были простыми потребителями древней средиземноморской культуры, они бы начали организацию собственной цивилизации по средиземноморскому образцу непосредственно по прибытии на территорию Греции, где определенные традиции ранней цивилизации (или протоцивилизации) уже сложились (Лерна III, Тиринф). Между тем в течение 800 лет (с учетом калиброванной радиоуглеродной даты прибытия греков) средиземноморские предпосылки цивилизации оставались невостребованными предками ахейцев. И дело здесь, конечно, не в психологической несовместимости первобытных греков с раннецивилизованными средиземноморскими влияниями. Эти восемь веков потребовались грекам для достижения того демографического и социального состояния, которое нуждалось в средствах общественной интеграции непервобытного характера. О самых первых этапах микенской протогородской культуры (1700–1400 до н.э.) прямых сведений нет, но данные о микенской цивилизации (1400–1200) довольно красноречивы. В хеттских документах из Хаттусаса времен царей от Суппилулиумаса I до Арнувандаса IV (ок. 1380–1190) постоянно упоминается царство Аххиява, которое было тождественно государству ахейцев (микенская Греция или ее восточные колонии), однако эпиграфические и эпические данные не дают оснований предполагать существование единого общеахейского государства. Архивы Кносса и Пилоса позволяют воссоздать в общих чертах структуру микенского общества[91]. Она состояла из представителей различных отраслей сельского хозяйства (земледельцы, пастухи) и ремесла (целый ряд профессий); имелись рабы, служители культа, представители административно–бюрократического аппарата (писцы); во главе государства стояли царь (лин. В ванака, греч. анакс), полководец (лавагета), руководители отдельных поселений (басилевсы) и другие должностные лица; существовали вооруженные силы и флот. По археологическим данным, была развита обширная внешняя торговля; колонизация охватила Средиземноморье от Южной Италии до западного побережья Малой Азии, Крита и Кипра. Таким образом, в микенской Греции развилось общество разделенного труда, бюрократические черты организации которого напоминают ранние ближневосточные цивилизации (Шумер, Египет). Это общество, как и раннешумерское, состояло из городов-государств (Микены, Пилос, Кносс на Крите и целый ряд других, известных Гомеру и классической греческой исторической традиции). Как и между шумерскими округами, между микенскими городами велась вооруженная борьба (эпические данные, подтверждаемые отчасти археологически). В конце своей эпохи микенцы образовали военно- политический союз во главе с Агамемноном (царь Микен) для борьбы с Троянским царством, что указывает на интегративные процессы междугороднего характера. По хеттским источникам, цари Аххиявы предпринимали внешнеполитические и военные действия в Малой Азии и на Кипре. Совокупность приведенных признаков стандартна для ранней цивилизации: общественное разделение труда и патриархальная иерархическая организация общества; внешнеторговая и колонизационная активность, а также признаки внешней политики; внутриполитическая борьба, направленная, вероятно, к интеграции страны (антитроянский союз); управленческий бюрократический аппарат (Кносс, Пилос, Фивы). Эти социальные реалии показывают, что микенская цивилизация была аналогична раннешумерской и, по косвенным признакам, раннеегипетской додинастической номовой эпохи. Можно предполагать поэтому, что причины возникновения названных цивилизаций были подобными. Следовательно, нет нужды привлекать для объяснения пусковых механизмов цивилизационного процесса какие–то частные обстоятельства бытия конкретных обществ: например, ирригацию в Шумере или крито–малоазийские влияния в Греции. Эти частности отразились на внешней форме цивилизационных событий, отнюдь не определяя их сущности. Осевшие около 4540 лет назад в Греции ахейцы, развивая свою производящую экономику, пришли в течение среднеэлладского периода III (1700–1550 до н.э.) к началам общественного разделения труда и первым фортифицированным поселениям городского типа (крепость с прилегающим поселением: Микены, Тиринф). В позднеэлладский период III А–В (1400–1200 до н.э.) их общество достигло довольно разветвленного состояния разделения труда. Эти дифференциальные процессы вызвали потребность интеграции микенских обществ, выразившуюся в совершенствовании предметной формы социальной структуры (перестройка дворцов, расширение фортификационных сооружений, прогресс рядовых жилищ, окружающих дворцы) и развитии ее иерархической организации. Пришедшие в движение социально–интегративные процессы породили военно–политическую борьбу микенских центров (объясняющую непосредственное назначение фортификации), их внешнеторговую, а затем и внешнеполитическую активность. Эти события укладываются в рамки стандартной социально–интегративной динамики ранней цивилизации, социально–философский анализ которой мы предприняли в предыдущем параграфе. Микенская цивилизация как вариант ранней цивилизации не обнаруживает принципиальных отличий от ближневосточных обществ того же типа. Раннее по сравнению с другими областями Европы возникновение греческой цивилизации мы объясняем не столько цивилизующими культурными влияниями с Востока, сколько близостью Греции к переднеазиатскому центру демографического роста и развития производящего хозяйства. По нашим представлениям (см. предыдущий параграф) для институциализации общественного разделения труда и возникновения цивилизации социуму требуется определенное демографическое состояние. О населенности микенской Греции в конце XIII в. до н.э. можно судить по “Перечню кораблей”, описанному в “Илиаде” (песнь вторая, 494–759)[92]. Считается, что этот “Перечень” является тем пассажем “Илиады”, который может восходить к микенским временам[93]. Структура же самого “Перечня” напоминает учетные таблички линейного письма В. Согласно этому документу, Агамемнон привел под Трою флот из 1186 кораблей, укомплектованный экипажами из 29 греческих областей. Суда из 23 областей (1007 кораблей) имели команду из 120 человек, а 6 областей направили 179 кораблей с экипажами по 50 человек. В итоге войско Агамемнона составило 129790 человек, что предполагает население участвовавших в войне регионов не менее, чем из 519160 человек. В войске были представлены отряды из нескольких населенных пунктов каждой области, а потому о населении отдельных пунктов трудно что-либо сказать определенно. Сам Агамемнон возглавлял войско из 12000 человек (100 кораблей) из Микен, Коринфа, Клеон, Орнии, Арефиреи, Сикиона, Гипересии, Гоноессы, Пеллены, Эгиона, Гелики. Войско Менесфея из Афин насчитывало 6000 человек (50 кораблей). Если это не поздняя конъюнктура, то население города достигало не менее 24000 человек. Наверное, население Микен, Пилоса, Аргоса и Кносса было не меньше (100, 90 и 80 судов по 120 человек). Надо учитывать и неполноту оценки (в Греции во время Троянской войны оставалось немало боеспособного населения, как видно из событий на Итаке), и можно думать, что некоторые ахейские города перешагнули “демографический рубикон” (10000 человек), необходимый для устройства институциализированного социума общественного разделения труда. В более мелкие поселения стереотипная структура общества могла иррадиироваться, сформировавшись в крупных центрах. Цивилизационный процесс для ранних цивилизаций наметился таким образом, что его ядром выступали предметные формы вторичной идеологической структуры общества, воплощенные в культовых сооружениях: от европейских мегалитических святилищ–обсерваторий до шумерских храмов. При всем различии архитектуры и культов, связанных с этими предметными формами, их социально-интегративные функции были абсолютно идентичны. Возможно, здесь имеет место своеобразный “храмовый путь” цивилизационного процесса. Роль культовых сооружений в нем не может удивлять, поскольку из всех возможных средств коллективного непроизводительного потребления, необходимых для образования предметной формы цивилизации (см. гл. II, 2), именно культовые сооружения отличались максимальной коллективностью и минимальной производительностью: в храмах ничего не производилось, а рассчитаны они были на всех членов сообщества (эзотерические храмы — позднее явление). Жилые здания были слишком индивидуализированы и, вдобавок, использовались для некоторых производственных нужд, а административные сооружения (резиденции правителей и т.п.) были слишком элитарны. Культовые сооружения, помимо прочего, являются очень древними образованиями (ср. возраст франко–кантабрийских пещерных святилищ верхнего палеолита, гл. I, 3) и существуют к начальному моменту цивилизационного процесса. Древность, непроизводительность и коллективность делают их наилучшим ядром, вокруг которого могла бы вырасти цивилизация. Многие “храмовые” протоцивилизации отличаются одной особенностью: отсутствием фортификационных сооружений в момент генезиса. Даже города цивилизации Хараппы имели стены не фортификационного, а вполне гражданского назначения: они защищали поселения от наводнений[94]. На стадии ранней цивилизации многие города “храмового” типа обзаводятся фортификационными постройками в связи с военно–политической активностью (см. гл. II, 2). Однако это достижение не имеет отношения к генезису цивилизации. Между тем фортификационные сооружения, как и культовые, являются наиболее оптимальными для образования предметной формы цивилизации средствами коллективного непроизводительного потребления. Фортификация не имеет никакого производственного назначения и в то же время отвечает нуждам всех членов создавшего ее социума. Нулевая производительность и максимальная коллективность, с точки зрения социально–интегративных возможностей, полностью уподобляют фортификацию культовым сооружениям: при всем различии их внешних повседневных функций их внутренняя общественная сущность, с социально–философской точки зрения, идентична для интегративных нужд цивилизации. Фортификационные сооружения появляются в начале докерамического неолита (Иерихон). Древность, непроизводительность и коллективность делают их оптимальным ядром, внутри и вокруг которого могла бы вырасти цивилизация. В этой связи можно постулировать второй “фортификационный” путь цивилизационного процесса, при котором формообразующим элементом цивилизации выступает не святилище, а укрепление. Этот постулат сопряжен с методологическими трудностями. Если легко представить себе поселение, лишенное укрепления, то трудно допустить существование поселений, движущихся к цивилизации, но лишенных предметных форм культа. Дело, однако, не идет о таком крайнем случае. |
|
© 2000 |
|