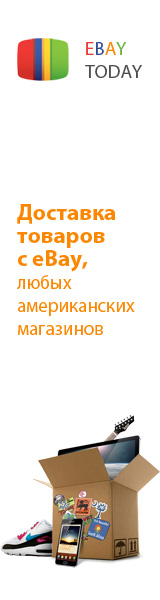|
РУБРИКИ |
Происхождений цивилизации |
РЕКЛАМА |
||
|
Происхождений цивилизациивыглядеть эти орудия, и наоборот, чем проще технология, тем атипичнее (нестандартнее) будут выглядеть артефакты, полученные в результате ее применения. Этот вывод хорошо согласуется с археологическими фактами. Олдовайская технология требовала порядка трех ударов для получения характерных отщепов и ядрища с двусторонним краем[25]; технология получения других орудий (чопперов, протобифасов и др., многие из которых, возможно, являлись побочным продуктом производства отщепов) была не намного сложнее (3–10 ударов на орудие). Столь простая техника обеспечивала изготовление довольно грубого инвентаря, в котором М.Д.Лики различила всего 9 типов[26]. Руководящее ископаемое африканского нижнего ашеля (ручное рубило) требовало 8–10 операций для своего изготовления[27], а древнеашельское рубило аббевильской техники — 25 операций[28] (норма нижнего ашеля — 8–30 ударов на орудие). Для получения средне-верхнеашельских рубил применялось порядка 65 ударов (по орудиям до 100 ударов). Мустьерский нож со спинкой нуждался в 111 (по орудиям до более 200), а ориньякский - в 251 ударе. Таким образом, рост степени сложности технологии от типичного олдовая до ориньяка вполне очевиден. Одновременно с усложнением технологии росла и стандартизация орудий: низкая в типичном олдовае и раннем африканском ашеле она становится значительной в среднем–верхнем ашеле, мустье и ориньяке. Казалось бы, усложнение технологии должно было затруднять изготовление похожих орудий в различных местонахождениях одной культуры, однако в действительности все обстояло наоборот. Этот феномен традиционно объясняется ростом интеллекта и мастерства гоминид, однако остается непонятным, что лежало в подоплеке роста мастерства. На наш взгляд, первопричина стандартизации орудий по мере усложнения технологии их производства состояла в том, что необходимые ошибки их репликации менее заметны на более сложно изготовленных орудиях. Рост мастерства и состоял в способности затушевать отклонения репликации в массе стандартных операций. На основе такой практики могли сложиться и начала индивидуального мастерства гоминид, т.е. способности утрировать уже сложившиеся на практике методы массового производства стандартных артефактов. В самом деле, из вышеописанных приложений теории информации видно, что особые трудности составляет не творческая, а репродуктивная деятельность, требующая для своего осуществления известного мастерства. Детальные показатели степеней сложности палеолитических технологий еще ожидают разработок, учитывающих комбинацию из номенклатуры орудий (число их типов) и количества ударов, сгруппированных в операции, необходимые для их производства. По М.Д.Лики, Дж.Д.Кларку, Ф.Борду, количество типов орудий достигает в типичном олдовае — 9, в развитом олдовае А — 11, в развитом олдовае В — 13, в развитом олдовае С — 13, в нижнем ашеле — 12, в среднем-верхнем ашеле — более 20, в мустье — более 60, в верхнем палеолите — более 90. Эта номенклатура отражает рост технологий во времени. Попробуем высказать предположения о природе этого процесса. Создание орудий является двояким процессом. С одной стороны, орудия обеспечивают соответствующую составляющую хозяйственной деятельности с определенным уровнем эффективности. С другой стороны, орудия должны сохранять свою принадлежность соответствующей культурной традиции, обеспечивающей уровень их эффективности. Но задача поддержания культурной традиции, т.е. стереотипного воспроизведения набора артефактов во времени, сталкивается с информационными трудностями их репликации. Чтобы поддерживать идентичность культуры во времени, ее создатели должны находиться в одинаковых отношениях к ней и в каждый конкретный момент. С информационной точки зрения, сообщества, производящие индустрию определенной степени сложности, в процессе репликации своей технологии стоят перед выбором образа действия, кратным степени сложности технологии. Чтобы вся часть сообщества, занятая производством индустрии находилась в одинаковом положении в производственном процессе, оптимальное количество непосредственных создателей индустрии должно быть близко количественному показателю технологии. Если изготовителей больше, определенное их число начинает дублировать выборы образа действия, уже разрешаемые соплеменниками, что является избыточным фактором репликации культуры. Напротив, если изготовителей меньше, на них ложится двойная нагрузка в решении информационных проблем воспроизводства стандартной индустрии. Если же количество типов инвентаря и соответствующих им технологических задач равноценно количеству производителей, последние оказываются в среднем в совершенно одинаковом положении при решении технологических проблем и связанных с ними информационных трудностей. Такое состояние наиболее оптимально для поддержания общеупотребительного состояния индустрии как в данный момент, так и во времени. Эту зависимость можно переформулировать и в других терминах. Когда степень сложности технологии эквивалентна численности своих создателей, на каждого из них, условно говоря, приходится определенный процент от общей степени сложности технологии, что выражает среднюю оптимальную эффективность ее воспроизводства. Если по какой–то причине сообщество вырастает, то, с одной стороны, в продуктах труда начинают накапливаться нестандартные изделия, совершенно избыточные для информационного оживления процесса репликации, поскольку они начинают дублировать друг друга; с другой стороны, процент технологии, приходящийся на каждого производителя, падает, что эквивалентно снижению эффективности воспроизводства культуры. Очевидно, это не оптимальный вариант. В противоположном случае, когда численность сообщества снижается, с одной стороны, возрастает трудоемкость репликации культуры, а с другой — появляется биологически неприемлемый момент деградации демографического состояния сообщества. Очевидно, из трех возможных вариантов отношения степени сложности технологии к демографическому состоянию сообщества оптимальным является промежуточный, когда демографические и технологические показатели близки. Между тем общая тенденция демографического роста человечества и популяций древних гоминид показывает, что в доистории, наверняка, бывали моменты, когда демографическое состояние тех или иных сообществ необратимо выходило за рамки баланса демографии и технологии. Последствием этого должно было стать одновременное снижение эффективности воспроизводства культуры и появление в ней избыточно большого количества нестандартных артефактов. Возможным средством преодоления этого негативного состояния могло быть введение определенных нестандартных артефактов в номенклатуру типичного инвентаря данной культуры. Это избавляло культуру от информационно избыточного нестандартного инструментария, восстанавливало эффективность воспроизводства культуры и, конечно, превращало ее в новую культуру. Например, мустьерская культура, базирующаяся в основном на технологии отщепов, постоянно порождала тот или иной процент пластин, которые явно не были основой мустьерской технологии. Во время верхнепалеолитического демографического взрыва пластины (мустьерский нестандарт) стали основой верхнепалеолитической технологии (шательперрон, ориньяк). Другой пример — судьба олдовайских протобифасов (типичный олдовай — 1,3%, развитой олдовай А — 2,3%), которые в типичном олдовае не были стандартны ни по фактуре, ни по частоте в инвентаре. В конце типично олдовайской эпохи, синхронно развитому олдоваю А, началась территориальная экспансия человека прямоходящего, которая в конце концов привела к его демографическому подъему и созданию раннеашельской культуры. В раннем ашеле нестандартные олдовайские протобифасы были несколько стандартизированы в бифасы и вошли в основной набор инвентаря (53,2%); то же, но менее выраженно, случилось и с синхронным развитым олдоваем В (6,3% бифасов). Примеры можно продолжить. В самом общем виде наше предположение о количественной связи демографии и технологии хорошо подкрепляется примерами, отчасти выходящими за рамки первобытности. Первый (верхнепалеолитический) демографический взрыв человечества сопровождался верхнепалеолитической технологической революцией. Второй (плейстоцен/голоценовый) демографический взрыв вызвал неолитическую технологическую революцию. И, наконец, третий (современный, начавшийся в XI — середине XVI в.[29]) демографический взрыв вызвал в Западной Европе промышленную технологическую революцию. Эти факты представляются весьма существенными. Возможная связь демографии с технологией проливает новый свет на динамику развития производительных сил. Последние состоят из личного (субъективный фактор) и вещного (средства и предметы труда) элементов, причем саморазвитие производительных сил начинается с личного элемента[30]. Эта схема представляется вполне правдоподобной, однако первоначальное изменение субъективного фактора производства нам видится не в усовершенствовании производителя, а в изменении его демографического состояния, что влечет за собой, как обрисовано выше, технологическое изменение средств труда. На наш взгляд, количественная корреляция демографии с технологией выполняла двоякую функцию: поначалу преимущественно демографическую, а затем и социальную. Для понимания генезиса демографо–технологической зависимости у наших предков необходимо обратиться к их истокам. Первые безорудийные гоминиды (австралопитек афарский и его пока малоизвестные предки) происходили из среды высших обезьян и имели сходные с последними структуры сообществ. Об этом неопровержимо свидетельствует тот факт, что обнаруженные этнографами у доцивилизованных народов основные формы кровно–родственных отношений (промискуитет, эндогамия, экзогамия, матрилинейность, патрилинейность, известные в пережитках или в полноценной форме) находят аналогии в среде высших приматов. Согласно Дж.Круку[31], структуру сообщества высших коллективных животных определяет уровень биопродуктивности среды обитания. Вследствие этого у высших приматов, живущих в условиях тропического леса (высокая биопродуктивность), складывается нежесткая структура сообщества (например, у шимпанзе), типологически напоминающая условия эндогамного промискуитета. В относительно менее биопродуктивных районах (например, в условиях саванной лесостепи у шимпанзе) наблюдается обмен самками, т.е. типологический аналог экзогамии. При этом преимущественное положение в сообществе наследуется по материнской линии (такая матрилинейность весьма характерна для приматов). В подобном случае мы сталкиваемся с типологическим аналогом экзогамии с матрилинейностью, что вполне могло бы лежать у истоков дуально–родовой организации с матрилинейностью (“матриархатом”). Наконец, у приматов, живущих в пустынных биотопах, встречается патрилинейная гаремная организация, обнаруживающая сходство с прототипом отцовского рода. Природа этих ассоциаций у приматов объясняется эволюционно-экологическими причинами. В малопродуктивных пустынных регионах количество доступной пищи ограничено, а потому в сообществах приматов сохраняется то минимальное количество самцов, которое необходимо для размножения, а прочие самцы изгоняются. Соответственно в сообществе, состоящем из самок с детенышами и небольшого числа самцов, устанавливается гаремная структура организации. В более продуктивных регионах (лесистая саванна и тропический лес) количество доступной пищи велико, и в сообществах приматов, обитающих в этих условиях, самцы не изгоняются, а отношения полов более свободны. В зависимости от биопродуктивности своего местообитания ранние гоминиды могли иметь тот или иной вариант структуры сообщества из числа вышеназванных и донести признаки похожих общественных структур до эпохи цивилизации. С наступлением цивилизованной эпохи судьба архаичных кровно–родственных общественных структур резко переменилась, причем в одном направлении: в цивилизованных социумах городского типа, несмотря на некоторые пережитки (эндогамии в древнем Египте и Эламе, например), повсеместно устанавливается патриархальная иерархическая структура, генезис которой мог иметь древнюю эволюционную природу. Дело в том, что городской цивилизованный образ жизни с жесткой привязкой населения к месту и отчуждением значительной его части от самостоятельной добычи пищи должен был поставить нормального примата, каким был человек, в ограниченные условия существования. Определенный аналог этим условиям обезьяны получают при содержании их в неволе, где они воспринимают ограничения своего доступа к пище (хотя ее достаточно) как обитание в малопродуктивном биотопе со скудными пищевыми ресурсами. Соответственно у обезьян в неволе складываются “пустынные” структуры отношений полов, т.е. гаремная патрилинейность. Весьма вероятно, что древние люди, обитая в стенах ранних цивилизаций (т.е. в известном смысле “в неволе”), реагировали на городской образ жизни аналогично, что объясняет повсеместное распространение в цивилизованной среде иерархического патриархата. Конечно, кровно–родственные отношения у людей современного типа, известные этнографии, значительно сложнее, чем отношения полов у высших обезьян, однако фундаментальные принципы организации отношений полов (эндогамия и экзогамия, матрилинейность и патрилинейность) у людей все-таки находят несомненные аналогии в среде высших приматов, что не должно удивлять, поскольку биологическая составляющая, разумеется, накладывает значительный отпечаток на социальную организацию отношений полов у людей. Природа очень длительного существования у гоминид архаичных кровно–родственных отношений, имеющих биологическое происхождение, может быть объяснена из особенностей доисторического развития гоминид. Подобно своим ближайшим родственникам — шимпанзе, ранние гоминиды, вероятно, были растительноядными существами с небольшой долей животной пищи в рационе[32], которую добывали групповой охотой[33] без использования орудий. Однако, как и шимпанзе[34], ранние гоминиды могли, должно быть, изготовлять и применять индивидуальные орудия, в том числе и в целях добычи пищи. Эти вполне вероятные особенности гоминид еще не выделяют их из рамок животного мира. Отличительная черта древних гоминид (и современных людей), помимо высокого метаболизма, состоит в обладании средствами коллективного производительного потребления. Средства коллективного производительного потребления кардинально отличаются от орудий животных своей способностью к самодвижению. В самом деле, средства коллективного непроизводительного потребления у животных не предназначены для движения (в данном случае — для производства), а потому не способны к самодвижению. Их создание является функцией коллективной этологии (поведения) носителей. Напротив, средства индивидуального производительного потребления у животных вполне пригодны для движения, однако природа последнего, являясь элементом индивидуальной этологии носителя, как и вся его индивидуальная этология, оказывается следствием индивидуального естественного отбора, который исключает самостоятельное движение средств индивидуального производительного потребления. Средства коллективного производительного потребления рассчитаны на движение (производство) и одновременно из-за своей коллективной природы не поддаются действию индивидуального естественного отбора. Сочетание этих особенностей придает средствам коллективного производительного потребления способность к самодвижению, т.е. к саморазвитию. Эта способность тесно связана с коллективной природой средств коллективного производительного потребления, и, как показано выше, технологическая степень сложности коллективных орудий находится в зависимости от демографического состояния их носителей, а пусковой механизм саморазвития коллективных производительных сил связан с изменением этого демографического состояния, являющегося первостепенным показателем субъективного (личного) элемента производительных сил. Складывается впечатление, что генезис коллективной природы производительных орудий у гоминид связан с эволюцией демографического состояния последних. Если ранние гоминиды уже обладали повышенным метаболизмом, то их трофические (пищевые) связи с экосредой должны были быть относительно напряженными, поскольку гоминиды мало подчинялись действию популяционных волн (гл. I, 1). С экологической точки зрения, популяции первозданных растительноядных гоминид имели невыгодные эволюционные перспективы, и, возможно, не случайно, что почти все растительноядные гоминиды, т.е. все австралопитеки, за исключением австралопитека умелого, не пережили падения биопродуктивности среды в начале оледенения Гюнц I, 1,36–1,27 млн. (позднейший австралопитек бойсов из Пенинджа, Натрон, Танзания, датирован ок. 1,35 млн.; южноафриканские находки не выходят за пределы 1,5 млн., за исключением австралопитека африканского, гипотетически датированного в Таунге, Капская провинция, Южная Африка, ок. 1 млн. лет.). Формально рассуждая, следовало бы предположить, что эволюционным выходом для растительноядного австралопитека афарского могло быть сокращение численности его локальных популяций обратно пропорционально превосходству его уровня удельного метаболизма по сравнению с другими млекопитающими. Метаболизм у него был в 3,8 раза выше стандарта млекопитающих, значит, его численность должна была сократиться вчетверо, что способно было перевести австралопитека афарского, очевидно, в лице его потомка — австралопитека умелого в иную эконишу. В самом деле, усредненное отношение биомассы растений, растительноядных и хищных животных в экосреде близко отношению величин 15 (растения), 1,5 (растительноядные) и 0,3 (хищники)[35], т.е. биомасса растительноядных в 10 раз меньше биомассы растений, а биомасса хищников - в 5 раз меньше биомассы растительноядных. Поэтому, если численность какого–то растительноядного вида надо сократить вчетверо, ему лучше всего превратиться в хищника. Возможно, именно таким образом растительноядный австралопитек афарский породил линию хищных гоминид (австралопитек умелый, человек прямоходящий). В силу вышеуказанных причин в популяциях этих хищных гоминид (точнее, всеядных со склонностью к хищничеству) должны были существовать демографические ограничения, и мы предполагаем, что в качестве первичного демографического ограничителя гоминиды усвоили материальную культуру коллективных производительных орудий (средства коллективного производительного потребления, стабильность которых коррелировала с демографической стабильностью носителей). Коллективную природу орудийной деятельности ранних гоминид, принадлежащей к технологии низкой степени сложности (уровень олдовайской культуры), мы объясняем корреляцией между низкой степенью сложности технологии и по возможности низкой плотностью населения первых хищных гоминид. Первостепенный интерес, конечно, представляет конкретный генезис демографически детерминированной технологии, однако факты на этот счет скудны. Типично олдовайская технология (9 типов орудий и технологический процесс примерно той же степени сложности) по сложности близка к объему кратковременной памяти у человека, измеренному в структурных единицах и равному 7±2[36]. Если некоторые олдовайские орудия были побочным продуктом изготовления отщепов, то степень сложности олдовайской технологии могла не выходить за пределы 7 типов. В этом случае генезис объема кратковременной памяти у человека надо искать именно здесь. С информационной точки зрения, оптимальную производительность технологии такой степени сложности обеспечивал примерно эквивалентный мужской коллектив производителей, что позволяет предполагать численность локального сообщества носителей типично олдовайской культуры в 28 особей. Палеодемографически численность сообществ ранних орудийных гоминид оценивают в 25–30 особей[37]. Технологическая и палеодемографическая оценки, очевидно, совпадают. Таким образом, мы предполагаем, что генезис коллективности средств производительного потребления у гоминид был вызван нуждами в демографическом самоконтроле их популяций. Этот самоконтроль обеспечивался технологическими средствами сообразно вышеописанной демографо–технологической зависимости. 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА Согласно демографо–технологической зависимости, изменение демографического состояния популяций древних гоминид сопровождалось усложнением практикуемой ими технологии. Более сложный инструментарий становится более специализированным и производительным, так как соответствие формы и функции орудий растет со специализацией последних. Отсюда проистекает наблюдаемое в истории возрастание производительности средств труда вместе с ростом сложности порождающей их технологии. Прямых сведений о росте производительности труда у ранних гоминид нет. Однако существуют данные, позволяющие составить общие представления на этот счет. Согласно К.Дж.Джолли[38], древние растительноядные безорудийные гоминиды, с точки зрения пищевой стратегии, были близки ископаемым павианам симопитекам. У современных павианов бабуинов показатель эффективности сбора пищи составляет примерно единицу (это отношение времени, необходимого для добычи пищи, ко времени, связанному с ее потреблением). Аналогичный показатель, похоже, имеется и у горилл[39]. Однако у таких охотников и собирателей, как современные африканские бушмены и хадза, а также австралийские аборигены, этот показатель может составлять 0,25, что в среднем означает один день добычи пищи на три дня ее потребления. У примитивных земледельцев — папуасов Новой Гвинеи обсуждаемый показатель достигает уже 0,1 (т.е. день добычи пищи на девять дней ее употребления)[40]. Следует добавить, что современные бушмены и австралийские аборигены (обычно) живут в условиях пустынной низкобиопродуктивной экосреды, так что древние гоминиды, населявшие более продуктивные биотопы, могли, по меньшей мере, не уступать им в эффективности добычи пищи. Не исключено, что ашельская “технологическая революция” могла сочетать рост степени сложности технологии с повышением эффективности связанного с ней хозяйства. Рост производительности труда, связанного с добычей пищи, у первобытных гоминид сопровождался высвобождением части их активного времени от хозяйственной деятельности, а это ослабляло эффект сиюминутной нужности производственных отношений гоминид. Но сама целостность сообществ гоминид к моменту “ашельской революции” уже миллион лет обеспечивалась отношениями, связанными с технологическим образом жизни, т.е. древней формой производственных отношений. Рост производительности труда, строго говоря, снижал впечатление нужности этих производственных отношений, поскольку в свободное время они не имели никакого практического воплощения. Производственная нужда гоминид друг в друге слабела, а их сообщества в принципе должны бы были распасться, утратить свою технологию и вернуть гоминид в животное состояние. На наш взгляд, для предотвращения такой угрозы первобытный социум стихийно нашел средства социализировать свободное время своих членов с целью поддержать свою нормальную целостность. Это сопровождалось развитием у ранних гоминид потребностей в общении непроизводственного характера. Общение подобного рода дополняло обычные производственные отношения, актуально функционирующие лишь часть активного времени гоминид (при производственных процессах). В целом все активное время гоминид могло быть заполнено различными формами коммуникаций: производственными (необходимыми для производства жизни и интеграции социума) и непроизводственными (необходимыми для интеграции социума, а в конечном счете для успешного производства жизни). Развитие непроизводственных форм общения, приведшее к формированию вторичной непроизводственной структуры общества, не было результатом каких-то “изобретений” и т.п. У животных существуют некоторые формы поведения, которые, если предположить, что ими обладали и гоминиды, могли развиться в непроизводственные формы общения. У животных этого не происходит, поскольку их образ жизни не порождает тех потребностей в непроизводственном общении, которые возникли у гоминид вследствие роста производительности их труда. Рассмотрим биологические предпосылки социальных форм поведения первобытных гоминид, которые легли в основу вторичных общественных структур и связанной с ними духовной культуры. Многие животные имеют средства коммуникации, обнаруживающие сходство с элементарной формой человеческого языка[41]. Эксперименты с шимпанзе, ближайшим родственником человека, показали, что этот примат способен усваивать человеческий язык жестов — амслен, что послужило подкреплением гипотезы о жестовой форме первого языка гоминид[42], поскольку последние вполне могли иметь способности родственных им шимпанзе. Пережитки языка жестов широко представлены у современного человека (непроизвольная жестикуляция при разговоре), что может объясняться древней связью центров управления речью (зоны Брока и Вернике левого полушария головного мозга) с центром управления правой рукой в левом полушарии. Связь объясняется тем, что первоначально речевые центры обслуживали жестовый язык, а затем приспособились к управлению устной речью. Поскольку речью и правой рукой у человека ведает левое полушарие (у правшей), признаки подобной функциональной асимметрии головного мозга (в частности, признаки праворукости) могли бы свидетельствовать о начале процесса возникновения (или даже нейро–физиологического закрепления у австралопитека умелого) языка жестов. Н.Тот, анализируя индустрию из Кооби–Фора, 1,9–1,4 млн. (в основном это индустрия карари, 1,65–1,25 млн., синхронная раннему человеку прямоходящему), обнаружил, что ее создатели были праворукими[43], что может быть древнейшим свидетельством существования языка жестов у гоминид. Начало процесса, впрочем, может восходить к финальному австралопитеку умелому, поскольку у гоминида KNM–ER 1470 (менее 1,82±0,04/1,6±0,05) отмечено развитое поле Брока. Причины и время перехода к устной речи у человека прямоходящего не ясны, однако, процесс завершился уже 0,73 млн. лет назад, о чем свидетельствует появление знакового творчества, датированное этим временем (см. Приложение). Конкретный ход генезиса языка жестов у гоминид пока не ясен. Из опытов с шимпанзе известно, что наилучшим образом они усваивают язык жестов, когда их пальцы просто складывают в нужный знак[44]. Можно лишь гадать, не передавали ли древние гоминиды аналогичным образом технологические навыки, и не привела ли подобная практика к жестовому языку. Генезис звукового языка также проблематичен. Во всяком случае, его нельзя объяснять производственной необходимостью — например, охотничьей, поскольку этологически близкие гоминидам-охотникам хищники охотятся молча (например, гиеновые собаки). С социально–философской точки зрения, основную функцию языка можно видеть в его способности социализировать свободное время непроизводственным способом. Так, австралийские аборигены проводят свободное время в обыденных разговорах (сплетнях)[45], что, несмотря на внешнюю невыразительность подобного способа общения, позволяет заполнить свободное время социальными связями. Весьма вероятно, что генезис языка имел отношение к первой известной форме религиозных представлений - мифологии. Как показал А.Леруа–Гуран статистическим методом[46] (современную статистику см. в Приложении), в верхнепалеолитическом франко–кантабрийском изобразительном искусстве (как в наскальном, так и в мобильном искусстве малых форм) существовало поразительное однообразие сюжетов. В течение 20000 лет (от ориньяка I до мадлена VI) западноевропейские кроманьонцы рисовали основную композицию, состоящую из фигур лошади, бизона (или быка) и горного козла (или замещающих его оленей, мамонта), которую сопровождали некоторые другие (обычно крайне редкие) животные, а также редкие антропоморфы и весьма многочисленные знаки. Это сюжетное однообразие А.Леруа–Гуран совершенно справедливо объяснил крайней стабильностью стоящих за ним идеологических представлений, которым могли отвечать только мифологические. Мы показали (см. Приложение), что между франко–кантабрийским искусством верхнего палеолита и мобильным искусством среднего и нижнего палеолита существует глубокое генетическое родство. Это позволяет датировать возникновение открытой А.Леруа–Гураном мифологии временем появления первых доверхнепалеолитических памятников мобильного искусства, древнейший из которых — Странска скала (Брно, Южная Моравия, Чехия, преашель, Гюнц/Миндель II, меньше или равно 0,73 млн.). Верхнепалеолитические создатели мифологической живописи, несомненно, обладали вербальным языком, поскольку достоверный глоттохронологический возраст древнейшего известного праязыка — ностратического составляет не менее 15000 лет (этот возраст эквивалентен примерной радиоуглеродной дате в 13000, что соответствует концу французского мадлена IV). Однако возраст праязыка современного человека, наверняка, близок возрасту его появления, т.е. не менее 200000 лет. Родство франко–кантабрийской мифологии, существование которой предполагает язык, с мифологией среднего–нижнего палеолита дает основание предполагать, что древность вербального языка не уступает возрасту нижнепалеолитического искусства — 0,73 млн. лет. Более того, как показали А.Маршак и Б.А.Фролов[47], верхнепалеолитическое знаковое творчество, в том числе и франко–кантабрийское, отражает существование лунного календаря (А.Маршак) и арифметического счета (Б.А.Фролов). На наш взгляд, характерные для франко–кантабрийского искусства парные знаки (например, прямоугольник + ряд параллельных черт, и т.п., см. Приложение) выражали календарные пометки (лунный месяц + количественное пояснение к нему). Парные знаки франко-кантабрийского типа известны уже в нижнем палеолите, что позволяет датировать возникновение лунного календаря и арифметического счета возрастом мобильного искусства — 0,73 млн. Связь мифологии с календарем не может удивлять, поскольку, например, у австралийских аборигенов мифологические ритуалы имеют календарную привязку[48]. Этологические предпосылки ритуальных форм поведения известны у шимпанзе. Дж.ван Лавик-Гудолл описала[49] так называемый “танец дождя” у шимпанзе, когда перед началом этого климатического события возбужденные шимпанзе приплясывают, размахивая ветвями деревьев. Описан также так называемый “карнавал”, когда при встрече групп шимпанзе эти приматы возбужденно приветствуют друг друга шумными возгласами, а также обмениваются прототипами объятий, похлопываний по спине, поцелуев, рукопожатий (все эти формы поведения в аналогичной ситуации весьма характерны для современных людей, что выдает очень древнее происхождение подобных форм общения); шимпанзе пританцовывают, сотрясают ветви деревьев, издают “барабанную дробь” ударами ладоней и подошв по стволам деревьев; как и у современных африканцев, “барабанная дробь” шимпанзе, разносящаяся на большие расстояния, служит для связи с другими группами шимпанзе (сигнализируя об обильных источниках пищи). Было бы только справедливо предположить, что развитие подобных поведенческих наклонностей могло иметь прямое отношение к возникновению ритуальных форм поведения у древних гоминид. В частности, “танец дождя” у шимпанзе теоретически мог бы находиться в отдаленном родстве с универсально распространенным в примитивных человеческих обществах обрядом вызывания дождя[50], а “карнавал” шимпанзе находит определенные аналогии в австралийском обряде Кунапипи (встреча групп аборигенов в сезон изобилия еды, сопровождающаяся пением, танцем, шумом и пр.)[51]. С социально–философской точки зрения, ритуальное поведение, вошедшее в обычай, было призвано регламентировать (структурировать) и социализировать свободное время древних гоминид, систематически заполняя его традиционными ритуальными формами непроизводственного общения. В свете нашей концепции происхождения вторичных (непроизводственных) общественных структур генезис ритуалов представляется вполне закономерным. Рост производительности труда и свободного времени вызвал нужду в развитии и институциализации внепроизводственных предпосылок ритуального поведения, имеющих у гоминид, вероятно, древнее (животное) происхождение. В рамках вторичной общественной структуры эти формы поведения приобрели самостоятельные социальные функции, позволяющие им упорядочивать часть свободного времени гоминид. Древность появления ритуальных форм поведения у гоминид можно определить лишь по косвенным данным. Первобытные народы, отправляя свои обряды, раскрашивают тело и ритуальные предметы красной охрой — например, австралийские аборигены[52]. Возможно, охра, находимая на палеолитических стоянках, имела именно такое назначение. Древнейшие находки красной охры известны на стоянке ВК II Олдувайского ущелья, Танзания (верхняя часть слоя II, развитой олдовай В, ок. 1,2 млн., 2 куска красной охры). Довольно загадочное происхождение раскраски тела у гоминид могло иметь охотничье происхождение. В качестве охотников ранние гоминиды вели себя как хищники, а характер раскраски тела у хищников зависит от их размеров (мелкие животные однотонны, средние узорчаты, а крупные вновь однотонны)[53]. Масса тела у австралопитека умелого могла составлять 51,3–54,3 кг, что приближалось к массе гепарда (50–65 кг.). Вполне возможно, что австралопитек умелый раскрашивался для охоты в мелкие пятна по всему телу, поскольку такой окраской маскируется гепард. У раннего человека прямоходящего вес мог быть на 10 кг больше (молодой индивид из Нариокотоме имел рост 1,6 м), и пятна для раскраски требовались несколько крупнее. Вполне возможно, что охотничья раскраска ранних гоминид была перенесена в ритуальное действо. Представляется также вероятным, что древние гоминиды, переселившись из теплой Африки в прохладную Европу, где они вынуждены были пользоваться одеждой, стали дублировать или заменять нательную раскраску нательными украшениями, обильно представленными в верхнем палеолите, начиная с ориньяка I, но известными и в среднем палеолите. Не исключено, что некоторые из этих объектов могли быть также амулетами-фетишами, поскольку клык жеребца из Пролома II, Крым (слой 2 или 1, Вюрм II В 2, 54000–51000, или Вюрм II С, 46500–39000), могущий быть подвеской, нес на себе 5 продольных черт. Генезис календарных представлений, с социально-философской точки зрения, весьма близок генезису ритуальных форм поведения, поскольку календарные представления регламентировали жизненное время гоминид и, в частности, их свободное время. Мы не считаем возможным объяснять генезис календаря производственными нуждами, связанными с сезонной добычей пищи, поскольку все животные успешно решают сходные задачи, обходясь без календаря: точнее, они его имеют в виде разного рода биологических часов и т.п. Однако биологические часы, по-видимому, не имеют отношения к самостоятельно существующим календарным представлениям, получившим особую предметную форму (знаковые памятники мобильного искусства палеолита). Как отмечалось, предметная форма лунного календаря и связанного с ним арифметического счета датируется 0,73 млн. лет назад (см. Приложение). Общественная природа возникшей палеолитической мифологии, на наш взгляд, также была социально–интегративной, поскольку, независимо от конкретного содержания этой мифологии, она образовывала семантическое поле, общее для всех членов палеолитического социума. Речь идет о круге общих представлений, передаваемых из поколения в поколение, от одних членов группы — к другим, что создавало между носителями мифологических представлений еще один вид социальной связи непроизводственного характера, призванной заполнить свободное время гоминид общением, способствующим поддержанию целостности сообщества. У австралийских аборигенов миф может рассматриваться как “рассказанный или пропетый обряд”[54], что сближает социальные функции мифологии и ритуала. В качестве одной из ритуальных форм поведения, по-видимому, надо рассматривать погребальный ритуал. Его биологические предпосылки, возможно, имеются у орангутанов и горилл, которые покрывают труп сородича грудой листьев и засыпают землей[55]. Погребения появляются у неандертальцев, по меньшей мере, в Рисс/Вюрме (слой 6 грота Киик–Коба, Тау–Кипчак, Симферополь, Крым, Украина, зубчатое мустье, Рисс/Вюрм, 111000, коллаген). Ритуализация общественной жизни гоминид, очевидно, означала появление определенных нормативов социальных коммуникаций. Способность гоминид к усвоению подобных нормативов, по–видимому, не ограничивалась религиозными традициями и обрядами. В самом деле, наша концепция вторичных общественных структур подсказывает, что все непроизводственное активное время гоминид должно было быть регламентировано в интересах поддержания целостности социума. Здесь у гоминид появились существенные поведенческие перспективы. С биологической точки зрения, поведение животных и гоминид можно подразделить на два основных типа: эгоистическое и альтруистическое поведение в буквальном смысле этих терминов. Эгоистическое поведение предписывает особи стратегию поступков, обеспечивающую особи максимальную выживаемость даже в ущерб другим особям. Такого рода поведение вырабатывается у животных благодаря индивидуальному естественному отбору. Альтруистическое поведение предполагает в стратегии поступков особи определенную составляющую таких поступков, которые прямо не способствуют выживанию особи, но помогают выжить ее генетическим родственникам[56]. Эта линия поведения поддерживается групповым отбором, который благоприятствует выживанию сходного генотипа, представленного у близких родственников. Подобный групповой отбор является, в сущности, вариантом индивидуального естественного отбора, поскольку единицей приложения индивидуального отбора является единичный генотип, представленный у единичной особи, а единицей приложения группового отбора оказывается тот же единичный генотип, тиражированный у нескольких родственных особей. В популяциях животных биологический эгоизм и альтруизм сбалансированы. Гоминиды с ростом производительности труда должны были попасть в ситуацию, когда баланс эгоизма и альтруизма у них нарушился. В самом деле, у гоминид появилось активное время, свободное от добычи пищи. Материальные жизненные факторы, способные питать эгоистичное поведение, в сфере свободного времени были представлены слабо, и, следовательно, в этой сфере поведенческий баланс должен был измениться в пользу альтруистичного поведения, поскольку, в отличие от эгоистичного поведения, альтруистическое поведение предполагает позитивные связи между индивидами, а раннее общество как раз и нуждалось в таких связях для социализации своего свободного времени непроизводственным путем. Именно этим обстоятельством мы объясняем широкую распространенность в человеческих социумах альтруистических форм поведения. Что же касается древних гоминид, то они стали альтруистичнее своих животных предков не из высших соображений, а потому, что альтруистичные формы общения (забота о слабых и старых, может быть, забота о покойных) понадобились им для заполнения свободного времени чем–то полезным, с точки зрения консолидации социума. В первобытном обществе, где происходила регламентация свободного времени (например, ритуальным образом), количественно растущие формы альтруистичного поведения, естественно, так же должны были претерпеть институциализацию в рамках вторичной общественной структуры. Нормированное альтруистичное поведение в человеческом обществе представлено нравственными формами поведения. Следовательно, можно предполагать, что нравственность возникла у гоминид с началом эпохи избыточной производительности труда. Первые признаки альтруистического поведения отмечены у человека прямоходящего более 1,5 млн. лет назад[57]. Языковые, ритуальные и нравственные формы коммуникаций у гоминид имели, как можно видеть, отчетливые биологические предпосылки. В отличие от названных форм вторичных общественных структур, ранние религиозные формы общения у гоминид, по-видимому, не имели биологических предпосылок. (Здесь, отвлекаясь от известной концепции Дж.Дж.Фрэзера, мы не делаем различий между магией и религией.) Ранние типы верований у гоминид (анималистическая мифология, магия, тотемизм, фетишизм, анимизм) связаны (за вычетом анимизма) с определенными предметными формами, классификационные свойства которых проливают свет на генезис указанных верований. Исходной предметной формой общественного бытия гоминид были средства коллективного производительного потребления, технологические нормы изготовления и употребления которых позволяют определить их как предметы определенного активного класса. Исходя из нашей гипотезы, можно было бы ожидать, что ранний социум для заполнения своего свободного времени должен был инсценировать технологические формы поведения в это непроизводственное время. При этом развитие предметной формы технологии должно было идти вполне предсказуемым путем: путем расширения и пассивизации ее класса. Расширение обусловливалось нуждой в заполнении свободного времени, а пассивизация — в заполнении этого времени непроизводственным путем. Первая линия развития предметного бытия гоминид (путем расширения класса) должна была привести к возникновению предметов неопределенного активного класса, в которых угадываются инструменты магии. В самом деле, магию отличают “обряды, идея которых состоит в сверхъестественном воздействии человека, непосредственно или посредством материальных предметов, слов или движений, на материальный же объект”[58], в чем состоит активное, наступательное начало магии[59]. Предметной же формой магии является инструмент магии, в качестве которого могут выступать |
|
© 2000 |
|