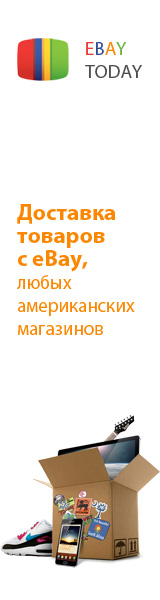|
РУБРИКИ |
Свобода и счастье человека |
РЕКЛАМА |
||
|
Свобода и счастье человекасмиряется. Он не понимает при этом, что его крах обусловлен не плохим выбором "волшебного помощника", а самим стремлением добиться своих целей путем манипуляций с волшебными силами вместо собственной спонтанной активности. Фрейд заметил явление пожизненной зависимости от внешнего объекта. Он истолковал это как продолжение ранних, сексуальных в своей основе, связей с родителями на всю жизнь. Этот феномен произвел на него такое впечатление, что он видел в эдиповом комплексе основу всех неврозов и считал успешное преодоление этого комплекса главной проблемой нормального развития. Увидев в эдиповом комплексе центральное явление психологии, Фрейд сделал одно из величайших психологических открытий, однако правильно истолковать его не смог. Хотя на самом деле существует сексуальное влечение между родителями и детьми, хотя на самом деле конфликты, вытекающие из этого влечения, иногда становятся одной из причин развития неврозов, все же ни сексуальные влечения, ни вытекающие из них конфликты не являются основой фиксации детей по отношению к родителям. Пока ребенок мал, он, вполне естественно, зависит от родителей, но эта зависимость совсем необязательно приводит к стеснению непосредственности ребенка. Однако, если родители, действуя как представители общества, начинают подавлять спонтанность и независимость ребенка, с возрастом ребенок все больше чувствует свою неспособность стоять на собственных ногах. Потому он ищет себе "волшебного помощника" и часто персонифицирует "его" в своих родителях. Позднее индивид переносит свои чувства на кого-нибудь другого, например на учителя, супруга или психоаналитика. Но эта потребность связать себя с каким-то символом авторитета вызывается вовсе не продолжением первоначального сексуального влечения к одному из родителей, а подавлением экспансивности и спонтанности ребенка и вытекающим отсюда беспокойством. Наблюдения показывают, что сущность любого невроза - как и нормального развития - составляет борьба за свободу и независимость. Для многих нормальных людей эта борьба уже позади: она завершилась полной капитуляцией; принеся в жертву свою личность, они стали хорошо приспособленными и считаются нормальными. Невротик - это человек, продолжающий сопротивляться полному подчинению, но в то же время связанный с фигурой "волшебного помощника", какой бы облик "он" не принимал. Невроз всегда можно понять как попытку - неудачную попытку - разрешить конфликт между непреодолимой внутренней зависимостью и стремлением к свободе. 2. Разрушительность Мы уже упоминали, что садистско-мазохистские стремления необходимо отличать от разрушительности, хотя они по большей части бывают взаимосвязаны. Разрушительность отличается уже тем, что ее целью является не активный или пассивный симбиоз, а уничтожение, устранение объекта. Но корни у нее те же: бессилие и изоляция индивида. Я могу избавиться от чувства собственного бессилия по сравнению с окружающим миром, разрушая этот мир. Конечно, если мне удастся его устранить, то я окажусь совершенно одинок, но это будет блестящее одиночество; это такая изоляция, в которой мне не будут угрожать никакие внешние силы. Разрушить мир - это последняя, отчаянная попытка не дать этому миру разрушить меня. Целью садизма является поглощение объекта, целью разрушительности - его устранение. Садизм стремится усилить одинокого индивида за счет его господства над другими, разрушительность - за счет ликвидации любой внешней угрозы. Каждого, кто наблюдает личные отношения в нашей социальной обстановке, поражает колоссальный уровень разрушительных тенденций, которые обнаруживаются повсюду. По большей части они не осознаются как таковые, а рационализируются в различных формах. Пожалуй, нет ничего на свете, что не использовалось бы как рационализация разрушительности. Любовь, долг, совесть, патриотизм - их использовали и используют для маскировки разрушения себя самого и других людей. Однако необходимо делать различие между двумя видами разрушительных тенденций. В конкретной ситуации эти тенденции могут возникнуть как реакция на нападение, угрожающее жизни или целостности самого индивида либо других людей или идеям, с которыми он себя отождествляет. Разрушительность такого рода - это естественная и необходимая составляющая утверждения жизни. Но мы рассматриваем здесь не эту рациональную враждебность, а ту разрушительность, которая является постоянно присутствующей внутренней тенденцией и ждет лишь повода для своего проявления. Если такая разрушительность проявляется без какой-либо объективной "причины", то мы считаем человека психически или эмоционально больным (хотя сам он, как правило, придумывает какую-нибудь рационализацию). В огромном большинстве случаев разрушительные стремления рационализируются таким образом, что по меньшей мере несколько человек - или целая социальная группа - разделяют эту рационализацию и она им кажется "реалистичной". Но объекты иррациональной разрушительности - и причины, по которым выбраны именно эти объекты, - сами по себе второстепенны; разрушительные импульсы - это проявления внутренней страсти, которая всегда находит себе какой-нибудь объект. Если по каким-либо причинам этим объектом не могут стать другие люди, то разрушительные тенденции индивида легко направляются на него самого. Когда они достигают некоторого уровня, это приводит к физическому заболеванию или даже к попытке самоубийства. Мы предположили, что разрушительность - это средство избавления от невыносимого чувства бессилия, поскольку она нацелена на устранение всех объектов, с которыми индивиду приходится себя сравнивать. Но если принять во внимание огромную роль разрушительных тенденций в человеческом поведений, то такое объяснение кажется недостаточным. Сами условия изоляции и бессилия порождают и два других источника разрушительности: тревогу и скованность. По поводу тревоги все достаточно ясно. Любая угроза жизненным интересам (материальным или эмоциональным) возбуждает тревогу , а самая обычная реакция на нее - разрушительные тенденции. В определенной ситуации угроза может связываться с определенными людьми, и тогда разрушительность направляется на этих людей. Но тревога может быть и постоянной, хотя и не обязательно осознанной; такая тревога возникает из столь же постоянного ощущения, что окружающий мир вам угрожает. Эта постоянная тревога является следствием изоляции и бессилия индивида и в то же время еще одним источником накапливающихся в нем разрушительных тенденций. Из той же основной ситуации происходит ощущение, которое я назвал скованностью. Изолированный и бессильный индивид испытывает ограничения в реализации своих чувственных, эмоциональных и интеллектуальных возможностей; ему не хватает внутренней уверенности, спонтанности, которая является условием такой реализации. Внутренняя блокада усиливается табу, наложенными обществом на счастье и наслаждение, вроде тех, которые пронизывают мораль и нравы среднего класса со времен Реформации. В наши дни внешние запреты практически исчезли, однако внутренняя скованность сохранилась, несмотря на сознательное приятие чувственных наслаждений. Проблема взаимосвязи между скованностью и разрушительностью была затронута Фрейдом; при изложении его теории мы сможем высказать и некоторые собственные соображения. Фрейд понял, что в своей первоначальной концепции, рассматривавшей половое влечение и стремление к самосохранению как две главные движущие силы человеческого поведения, он упустил из виду роль и значение разрушительных побуждений. Позднее, решив, что разрушительные тенденции столь же важны, как и сексуальные влечения, он пришел к выводу, что ] в человеке проявляются два основных стремления: стремление к жизни, более или менее идентичное сексуальному "либидо", и инстинкт смерти, имеющий целью уничтожение жизни. Фрейд предположил, что инстинкт смерти, сплавленный с сексуальной энергией, может быть направлен либо против самого человека, либо против объектов вне его. Кроме того, он предположил, что инстинкт смерти биологически заложен во всех живых организмах и поэтому является необходимой и неустранимой составляющей жизни вообще. Гипотеза о существовании инстинкта смерти обладает тем достоинством, что отводит важное место разрушительным тенденциям, которые не принимались во внимание в ранних теориях Фрейда. Но биологическое истолкование не может удовлетворительно объяснить тот факт, что уровень разрушительности в высшей степени различен у разных индивидов и разных социальных групп. Если бы предположения Фрейда были верны, следовало бы ожидать, что уровень разрушительности, направленной против других или против себя, окажется более или менее постоянным. Однако наблюдается обратное: не только между различными индивидами, но и между различными социальными группами существует громадная разница в весе разрушительных тенденций. Так, например, вес этих тенденций в структуре характера представителей низов европейского среднего класса определенно и значительно выше, нежели в среде рабочих или представителей социальной верхушки. Этнографические исследования познакомили нас с целыми народами, для которых характерен особенно высокий уровень разрушительности; между тем другие народа проявляют столь же заметное отсутствие разрушительных тенденций - как по отношению к другим людям, так и по отношению к себе. По-видимому, любая попытка понять корни разрушительности должна начинаться с наблюдения, именно этих различий. Затем необходимо установить, нет ли других различающих факторов и не могут ли эти факторы быть причиной упомянутых различий в уровне разрушительности. Эта проблема настолько сложна, что потребовала бы специального исследования; его мы здесь провести не можем. Однако я хотел бы предположительно указать, в каком направлении следует искать ответ. Кажется правдоподобным, что уровень разрушительности в индивиде пропорционален той степени, до какой ограничена его экспансивность. Мы имеем в виду не отдельные фрустрации того или иного инстинктивного влечения, а общую скованность, препятствующую спонтанному развитию человека и проявлению всех его чувственных, эмоциональных и интеллектуальных возможностей. У жизни своя собственная динамика: человек должен расти, должен проявить себя, должен прожить свою жизнь. По- видимому, если эта тенденция подавляется, энергия, направленная к жизни, подвергается распаду и превращается в энергию, направленную к разрушению. Иными словами, стремление к жизни и тяга к разрушению не являются взаимно независимыми факторами, а связаны обратной зависимостью. Чем больше проявляется стремление к жизни, чем полнее жизнь реализуется, тем слабее разрушительные тенденции; чем больше стремление к жизни подавляется, тем сильнее тяга к разрушению. Разрушительность - это результат непрожитой жизни. Индивидуальные или социальные условия, подавляющие жизнь, вызывают страсть к разрушению, наполняющую своего рода резервуар, откуда вытекают всевозможные разрушительные тенденции - по отношению к другим и к себе. Само собой понятно, насколько важно не только осознать роль разрушительности и враждебности в динамике социального процесса, но и понять, какие именно факторы способствуют их усилению. Мы уже говорили о враждебности, которой был охвачен средний класс в период Реформации и которая нашла свое выражение в некоторых религиозных доктринах протестантства. Особенно это заметно в аскетическом духе протестантства, в кальвинистском образе безжалостного бога, для собственного удовольствия осудившего часть людей на вечные муки без всякой их вины. В то время - как . и позднее - средний класс выражал свою враждебность главным образом под маской морального негодования, которое рационализировало жгучую зависть к тем, у кого была возможность наслаждаться жизнью . В наше время разрушительные тенденции низов среднего класса стали важным фактором в развитии нацизма, который апеллировал к этим тенденциям и использовал их в борьбе со своими противниками. Источники разрушительности в этом социальном слое легко определить: это все та же изоляция индивида, все то же : подавление индивидуальной экспансивности, о которых мы уже говорили и которые в низах среднего класса гораздо ощутимее, чем в выше- или нижестоящих классах общества. 3. Автоматизирующий конформизм С помощью рассмотренных нами механизмов "бегства" индивид преодолевает чувство своей ничтожности по сравнению с подавляюще мощным внешним миром, или за счет отказа от собственной целостности, или за счет разрушения других, для того чтобы мир перестал ему угрожать. Другие механизмы "бегства" состоят в полном отрешении от мира, при котором мир утрачивает свои угрожающие черты (эту картину мы видим в некоторых психозах), либо в психологическом самовозвеличении до такой степени, что мир, окружающий человека, становится мал в сравнении с ним. Эти механизмы "бегства" важны для индивидуальной психологии, но не представляют большого интереса в смысле общественной значимости. Поэтому я не стану их здесь обсуждать, а обращусь к еще одному механизму, чрезвычайно важному в социальном плане. Именно этот механизм является спасительным решением для большинства нормальных индивидов в современном обществе. Коротко говоря, индивид перестает быть собой; он полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему общепринятым шаблоном, и становится точно таким же, как все остальные, и таким, каким они хотят его видеть. Исчезает различие между собственным "я" и окружающим миром, а вместе с тем и осознанный страх перед одиночеством и бессилием. Этот механизм можно сравнить с защитной окраской некоторых животных: они настолько похожи на свое окружение, что практически неотличимы от него . Отказавшись от собственного "я" и превратившись в робота, подобного миллионам других таких же роботов, человек уже не ощущает одиночества и тревоги. Однако за это приходится платить утратой своей личности. Итак, мы полагаем, что "нормальный" способ преодоления одиночества в нашем обществе состоит в превращении в автомат. Но такая точка зрения противоречит одному из самых распространенных представлений о человеке нашей культуры; принято думать, что большинство из нас - личности, способные думать, чувствовать и действовать свободно, по своей собственной воле. Каждый человек искренне убежден, что он - это "он", что его мысли, чувства и желания на самом деле принадлежат "ему". Но хотя среди нас встречаются и подлинные личности, в большинстве случаев такое убеждение является иллюзией, и притом иллюзией опасной, ибо она препятствует ликвидации причин, обусловивших такое положение. Здесь мы сталкиваемся с одной из самых главных проблем психологии, которую проще всего разъяснить с помощью ряда вопросов. Что такое "я"? Какова природа действий, которые лишь кажутся собственными? Что такое спонтанность? Что такое самобытный психический акт? И наконец, какое отношение все это имеет к свободе? В этом разделе мы покажем, как чувства и мысли могут внушаться со стороны, но субъективно восприниматься как собственные, а также как собственные чувства и мысли могут быть подавлены и тем самым изъяты из личности человека. Обсуждение поднятых здесь вопросов мы продолжим в главе "Свобода и демократия". Начнем наше рассуждение с анализа того смысла, который вкладывается в утверждения: "я чувствую", "я думаю", "я хочу". Когда мы говорим "я думаю", это кажется вполне однозначным утверждение . Единственный возникающий при этом вопрос состоит в том, верно я думаю или ошибаюсь; но я думаю или не я - такой вопрос вообще не приходит в голову. Между тем этот вопрос далеко не так странен, как кажется" и это можно доказать экспериментом. Сходим на сеанс гипноза. Вот субъект А', гипнотизер Б погружает его в гипнотический сон и внушает ему, что, проснувшись, он захочет прочесть рукопись, не найдет ее, решит, что другой человек, В, эту рукопись украл, и очень рассердится на этого В. В завершение ему говорится, что он должен забыть об этом внушении. Добавим, что наш А никогда не испытывал ни малейшей антипатии к В, и напомним, что никакой рукописи у него не было. Что же происходит? А просыпается и после непродолжительной беседы на какую- нибудь тему вдруг заявляет: "Да, кстати! Я написал недавно что-то в этом роде. У меня рукопись с собой, давайте я вам прочту". Он начинает искать свою рукопись, не находит ее, поворачивается к В и спрашивает, не взял ли тот его рукопись. В отвечает, что не брал, что никакой рукописи вообще не видел. Внезапно А взрывается яростью и прямо обвиняет В в краже рукописи. Затем он приводит доводы, из которых следует, что В - вор. Он от кого-то слышал, что его рукопись крайне нужна В, В воспользовался моментом... и т.д. и т.д. Мы слышим не только обвинения в адрес В, но и целый ряд рационализации, которые должны придать этим обвинениям правдоподобный вид. Естественно, что все они ложны и прежде никогда не пришли бы ему в голову. Предположим, что в этот момент в зал входит новый человек. У него не возникнет и тени сомнения, говорит ли А именно то, что думает и чувствует; единственный вопрос, какой он может задать, справедливы ли обвинения А в адрес В, то есть соответствует ли содержание мыслей А реальным фактам. Но мы, видевшие все с самого начала, не станем спрашивать, насколько справедливы эти обвинения. Мы знаем, что здесь никакого вопроса нет; мы уверены: все, что сейчас думает и чувствует А, - это не его мысли и чувства, а чужеродные элементы, заложенные в его голову другим человеком. Рассуждения вновь вошедшего будут примерно таковы: "Вот А, по которому ясно видно, что он на самом деле все это думает. Относительно его чувств тоже нет лучшего свидетельства, чем его собственные слова. Вот другие люди, утверждающие, что его мысли ему навязаны. По правде сказать, трудно разобраться, кто здесь прав. Наверно, все-таки они: их много, так что вероятность одной и той же ошибки слишком мала". Мы с вами видели весь эксперимент с начала, и у нас никаких сомнений нет; если вновь вошедший человек был на гипнотических сеансах, то сомнений не будет и у него. В этом случае он будет заведомо знать, что подобные эксперименты можно повторять сколько угодно раз, с разными людьми и разным содержанием внушений. Гипнотизер может внушить, что сырая картофелина - это превосходный ананас, и субъект будет есть ее, ощущая вкус ананаса; или - что он слепой, и он на самом деле перестанет видеть; или - что субъект считает Землю плоской, и тот будет с пеной у рта доказывать, что Земля плоская. Что доказывает гипнотический эксперимент, а особенно послегипнотическое поведение? Он доказывает, что у нас могут быть мысли, чувства, желания и даже ощущения, которые мы субъективно воспринимаем как наши собственные, хотя на самом деле это не так. Мы действительно испытываем эти чувства, ощущения и т.д., но они навязаны нам со стороны, по существу, нам чужды и могут не иметь ничего общего с тем, что мы думаем и чувствуем на самом деле. Описанный нами гипнотический эксперимент показывает, что субъект, во- первых, чего-то хочет (в данном случае прочесть свою рукопись); во-вторых, нечто думает (что В ее взял); в-третьих, что-то чувствует (раздражение против В). При этом все три психических акта - его волевой импульс, мысль и чувство - не являются его собственными, не являются результатом его собственной психической деятельности. Они не возникли в нем самом, они заложены в него, но при этом ощущаются так, как если бы были собственными. Он высказывает и целый ряд мыслей, которые не были ему внушены под гипнозом; однако рационализации, которыми он "объясняет" свою уверенность в том, что В украл рукопись, являются его собственными мыслями лишь формально. Они вроде бы объясняют его подозрение; но мы-то знаем, что подозрение появилось раньше; что рационализирующие мысли изобретены лишь для того, чтобы оправдать уже существующее чувство. Не подозрение вытекает из этих мыслей, а наоборот. Мы начали с гипнотического эксперимента, потому что в нем самым неопровержимым образом проявляется следующее: человек может быть убежден в спонтанности своих психических актов, в то время как они возникают под влиянием другого лица в некоторых специальных условиях. Но это явление отнюдь не ограничивается особой ситуацией гипноза. Содержание наших мыслей, чувств и желаний бывает индуцировано извне, не является своим собственным настолько часто, что эти псевдоакты, пожалуй, являются правилом, а исключение составляют подлинно самобытные мысли и чувства. Псевдомышление известно лучше, чем аналогичные явления в сфере желаний и чувств. Поэтому для начала лучше разобраться в различии между истинным мышлением и псевдомышлением. Предположим, что мы с вами на острове, где встречаем местных рыбаков и дачников-горожан. Мы хотим узнать, какая будет погода; спрашиваем об этом рыбака и двух дачников, про которых знаем, что все они слышали прогноз по радио. Рыбак, имеющий большой опыт и постоянно заинтересованный в погоде, задумается, если еще не составил себе мнения до разговора с нами. Зная, что направление ветра, температура, влажность и т.д. являются исходными данными для предсказания погоды, он взвесит относительное значение различных факторов и придет к более или менее определенному заключению. Вероятно, он вспомнит и прогноз, переданный по радио, и приведет его в подтверждение своего мнения (или скажет, что вот то- то и то-то не сходится); в случае расхождения он будет особенно осторожен в оценке собственных соображений. Но во всяком случае, он скажет нам свое мнение, результат своего размышления, а это - единственное, что важно для нашего анализа. Первый из спрошенных нами горожан - человек, который в погоде не разбирается и знает об этом; ему это не нужно. Он отвечает: "Знаете, я в этом ничего не понимаю. Все, что могу вам сказать, - прогноз был вот такой". Другой дачник - это человек совсем другого плана. Он из тех людей, кто чувствует себя обязанным уметь ответить на любой вопрос; он полагает, что прекрасно разбирается в погоде, хотя на деле это далеко от истины. Немного подумав, он сообщает нам "свое" мнение, в точности совпадающее с прогнозом. Мы спрашиваем, почему он так думает, и он отвечает, что пришел к такому заключению, исходя из направления ветра, температуры и т.д. Поведение этого человека внешне не отличается от поведения рыбака, но, если разобраться, становится очевидно, что он просто усвоил прогноз. Однако он ощущает потребность иметь собственное мнение и поэтому забывает, что просто- напросто повторяет чье-то авторитетное утверждение; он верит, что пришел к определенному выводу на основании собственных размышлений, на самом же деле он просто усвоил мнение авторитета, сам того не заметив. Ему кажется, что у него были основания прийти к этому мнению, и он нам эти основания излагает; но, если проверить, окажется, что он вообще не смог бы сделать из них никакого вывода. Очень может быть, что он предскажет погоду правильно, а рыбак ошибется, но это дела не меняет: правильное мнение такого горожанина не является собственным, а ошибочное мнение рыбака - собственное. То же самое можно наблюдать, изучая мнения людей по любому вопросу, например в области политики. Спросите рядового читателя газеты, что он думает о такой-то политической проблеме, и он вам выдаст как "собственное" мнение более или менее точный пересказ прочитанного; но при этом - что для нас единственно важно - он верит, будто все, сказанное им, является результатом его собственных размышлений. Если он живет в небольшой общине, где политические взгляды передаются от отца к сыну, он может не отдавать себе отчета в том, до какой степени "его собственное" мнение определяется авторитетом строгого родителя, сложившимся в детские годы. У другого читателя мнение может быть продуктом минутного замешательства, страха показаться неосведомленным - так что "мысль" его оказывается лишь видимостью, а не результатом естественного сочетания опыта, знаний и политических убеждений. То же явление обнаруживается в эстетических суждениях. Средний посетитель музея, рассматривающий картину знаменитого художника, скажем Рембрандта, находит ее прекрасной и впечатляющей. Если проанализировать его суждение, то оказывается, что картина не вызвала у него никакой внутренней реакции, но он считает ее прекрасной, зная, что от него ожидают именно такого суждения. То же самое происходит с мнениями людей о музыке и даже с самим актом восприятия вообще. Очень многие, глядя на какой-нибудь знаменитый пейзаж, фактически воспроизводят в памяти его изображение, которое неоднократно попадалось им на глаза, скажем на почтовых открытках. Они смотрят на пейзаж, искренне веря, что видят его, но в действительности видят те самые открытки. Если при них случается какое- нибудь происшествие, то они воспринимают ситуацию в терминах будущего газетного репортажа. У многих людей любое происшествие, в котором они принимали участие, любой концерт, спектакль или политический митинг, на котором они присутствовали, - все это становится для них реальным лишь после того, как они прочтут об этом в газете. Подавление критического мышления, как правило, начинается в раннем возрасте. Например, пятилетняя девочка может заметить неискренность матери: та всегда говорит о любви, а на самом деле холодна и эгоистична; или - более резкий случай - постоянно подчеркивает свои высокие моральные устои, но связана с посторонним мужчиной. Девочка ощущает этот разрыв, оскорбляющий ее чувство правды и справедливости, но она зависит от матери, которая не допустит никакой критики, и, предположим, не может опереться на слабохарактерного отца, и поэтому ей приходится подавить свою критическую проницательность. Очень скоро она перестанет замечать неискренность или неверность матери; она утратит способность мыслить критически, поскольку выяснилось, что это и безнадежно, и опасно. Вместе с тем девочка усвоит шаблон мышления, позволяющий ей поверить, что ее мать искренний и достойный человек, что брак ее родителей - счастливый брак; она примет эту мысль как свою собственную. Во всех этих примерах псевдомышления вопрос состоит лишь в том, является ли мысль результатом собственного мышления, то есть собственной психической деятельности. В данном аспекте содержание мысли не играет никакой роли. Мы уже видели, что рыбак мог ошибаться в своем прогнозе погоды, а дачник, повторивший радиопрогноз, мог оказаться прав. Псевдомышление может быть вполне логичным и рациональным; его псевдохарактер не обязательно должен проявляться в каких-либо алогичных элементах. Это можно заметить, изучая рационализации, которые имеют целью объяснить некое действие или чувство разумными и объективными основаниями, хотя на самом деле оно определяется иррациональными и субъективными факторами. Рационализация может и противоречить фактам или законам логики, но часто она вполне разумна и логична; в этом случае ее иррациональность заключается только в том, что она не является подлинным мотивом действия, а лишь выдает себя за такой мотив. Примером нелогичной рационализации может послужить хорошо известный анекдот. Человек одолжил у соседа кувшин и разбил его. Когда тот просит вернуть кувшин, он отвечает: "Во-первых, я его тебе уже отдал; во-вторых, я никакого кувшина у тебя не брал; и вообще, когда ты мне его давал, он уже тогда был разбит!" В качестве примера "разумной" рационализации можно привести такой случай. Некто А испытывает материальные затруднения и просит своего родственника Б одолжить ему денег. Б отказывает, заявляя при этом, что не хочет потакать безответственности А и его привычке жить за чужой счет. Сами по себе эти основания могут быть вполне разумными, но все же это рационализация, поскольку Б не хотел бы давать денег ни при каких обстоятельствах; хотя он убежден, что руководствуется заботой об А, подлинной причиной его отказа является скупость. Таким образом, логичность некоего высказывания сама по себе не решает, рационализация это или нет; необходимо принять во внимание внутреннюю мотивировку этого высказывания. Решающим моментом здесь является не то, что человек думает, а то, как его мысль возникла. Если мысль возникает в результате собственного активного мышления, она всегда нова и оригинальна. Оригинальна не обязательно в том смысле, что никому не приходила в голову раньше, но в том смысле, что человек использовал собственное мышление, чтобы открыть нечто новое для себя в окружающем мире или в себе самом. Рационализации в принципе не могут, иметь такого характера открытий; они лишь подкрепляют эмоциональное предубеждение, уже существующее в человеке. Рационализация - это не инструмент для проникновения в суть явлений, а попытка задним числом увязать свои собственные желания с уже существующими явлениями. Точно так же, как различаются подлинные мысли и псевдомысли, необходимо различать подлинные чувства, возникающие внутри нас, и псевдочувства, в действительности не наши, хотя мы и не отдаем себе в этом отчета. Возьмем пример из повседневной жизни, который типичен для наших псевдочувств при общении с другими людьми. Мы наблюдаем человека в гостях. Он весел, разговорчив, общителен и вообще кажется довольным и счастливым. Вот он широко улыбнулся на прощание, сказал, что провел восхитительный вечер, что был безмерно рад видеть всех присутствующих; дверь за ним закрывается, - и тут мы не спускаем с него глаз. В его лице резкая перемена. Что исчезает улыбка, это естественно: ему некому больше улыбаться. Но на лице его появляется выражение глубокой тоски, почти отчаяния. Это выражение, впрочем, сохраняется лишь несколько мгновений, затем лицо вновь скрывается под обычной маской. Человек садится в свою машину, вспоминает вечер, размышляет, какое впечатление он там произвел, решает, что хорошее... Но это "он" был весел и счастлив только что? А момент отчаяния, который мы заметили, что это? Быть может, мимолетная реакция, которой не надо придавать никакого значения? Если ничего не знать об этом человеке, ответ на такой вопрос невозможен. Однако следующий дальше эпизод может дать ключ к пониманию того, что означала его веселость. В эту ночь ему снится сон, что он снова на войне. Он получил задание перейти линию фронта и проникнуть в неприятельский штаб. На нем офицерский мундир, по-видимому немецкий, и вдруг он оказывается среди немецких офицеров. Его удивляет, что в штабе такой комфорт и что все так хорошо к нему относятся, но все больше и больше его охватывает страх, что его разоблачат. Один из молодых офицеров, который ему особенно понравился, подходит к нему и говорит: "Я знаю, кто вы. У вас только один способ спастись; начните рассказывать анекдоты, смейтесь сами и рассмешите их так, чтобы они отвлеклись и у них не осталось внимания на вас". Он очень благодарен за совет, начинает рассказывать анекдоты и смеяться; но постепенно его веселье становится неестественным, остальные офицеры смотрят на него с подозрением - и чем больше их подозрения, тем более вымученными становятся его шутки. В конце концов его охватывает такой страх, что он не выдерживает; он вскакивает, бежит, они гонятся за ним... Вдруг все меняется: он сидит в трамвае, трамвай остановился возле его дома, на нем штатский костюм, и он с облегчением понимает, что война позади. Давайте предположим, что мы в состоянии спросить у него на следующий день, с чем он может связать отдельные элементы этого сна. Здесь мы отметим лишь некоторые ассоциации, особенно важные для понимания того, что нас интересует. Немецкая речь напоминает ему, что один из гостей накануне говорил с сильным немецким акцентом. Этот человек (с акцентом) был ему неприятен, потому что не обратил на него почти никакого внимания, хотя он очень старался произвести хорошее впечатление. По ходу этих мыслей он вспоминает, что в какой-то момент вчерашнего вечера у него было чувство, будто тот, с немецким акцентом, насмехался над ним, ядовито улыбнулся, услышав какую-то его фразу. Когда он припоминает уютное помещение штаба, ему кажется, что оно было похоже на тот дом, где он был вчера, но окна напоминали окна того кабинета, где он когда-то провалил экзамен. Удивленный этой ассоциацией, он вспоминает, что накануне был озабочен тем, какое впечатление произведет. Отчасти потому, что один из гостей был братом девушки, внимание которой он хотел привлечь, а отчасти потому, что хозяин имеет влияние на его начальника, от которого сильно зависит его продвижение по службе. Говоря об этом начальнике, он признается, что терпеть его не может, жалуется, как унизительно изображать дружелюбные чувства к нему; и неожиданно для себя самого вдруг выясняет, что испытывал некоторую неприязнь и к хозяину дома, хотя и не осознавал этого. Еще одна ассоциация состоит в том, что он рассказал что-то смешное о лысом человеке, а потом уже сообразил, что хозяин тоже почти совсем лыс, и ему стало неловко. Трамвай его очень удивляет, потому что рельсовых путей вроде не было. Говоря об этом, он вспоминает, что мальчиком ездил в школу на трамвае; а дальше ему приходит на память, что во сне он сидел на месте вагоновожатого, - и подумал, что управление трамваем удивительно похоже на управление автомобилем. Очевидно, что трамвай заместил его собственный автомобиль, на котором он вернулся домой, а его возвращение напомнило, как он возвращался из школы. Для каждого, кто умеет разбираться в значении снов, уже ясно, какие выводы следуют из этого сновидения и сопровождающих его ассоциаций, хотя мы рассказали только часть этих ассоциаций и, в сущности, ничего не сказали о самом человеке, о его прошлом и настоящем. Сои позволяет сказать об его истинных чувствах накануне. Он был встревожен, боялся, что не сумеет произвести нужное впечатление, злился на некоторых людей, которые, как ему казалось, плохо к нему относились и насмехались над ним. Как видно из сновидения, его веселость была лишь средством скрыть тревогу и раздражение и в то же время умиротворить тех, кто его раздражал. Вся его веселость была маской, служившей для прикрытия его подлинных чувств: страха и раздражения. Это порождало неуверенность его положения; он чувствовал себя как шпион во вражеском окружении, которого могут разоблачить в любой момент. Мимолетное выражение отчаяния, которое мы заметили на его лице в момент ухода, теперь получает и подтверждение, и объяснение: в тот момент лицо выражало истинные его чувства, хотя ом этих чувств не осознавал. Во сне они приобрели явственное и драматическое выражение, хотя и не были открыто связаны с теми людьми, к которым относились в действительности. Этот человек не невротик, и он не был под воздействием гипноза. Это, пожалуй, вполне нормальный индивид, с той же тревогой, с тем же стремлением к признанию, какие обычны у современных людей вообще. Но он настолько привык испытывать именно те чувства, какие от него ожидаются в определенных ситуациях, что лишь в порядке исключения мог бы заметить в своих чувствах нечто "чужое"; он не сознавал того факта, что его веселье было не его. То же, что относится к мыслям и чувствам, справедливо и в отношении желаний. Большинство людей убеждено, что если их не принуждает открыто какая-либо внешняя сила, то их решения - это их собственные решения, и если они чего-то хотят, то это их собственные желания. Такое представление о себе - одна из величайших наших иллюзий. На самом деле значительная часть наших желаний фактически навязана нам со стороны; нам удается убедить себя, что это мы приняли решение, в то время как на самом деле мы подстраиваемся под желания окружающих, гонимые страхом изоляции или даже более серьезных опасностей, угрожающих нашей жизни. Когда детей спрашивают, хотят ли они ходить в школу каждый день, и они отвечают "конечно, хочу!", - это правдивый ответ? В большинстве случаев определенно нет. Ребенок может хотеть пойти в школу достаточно часто, но нередко он предпочел бы поиграть или заняться чем-нибудь еще. Если он чувствует желание бывать в школе каждый день, то - скорее всего - подавляет свое нежелание. Он чувствует, что от него ждут желания ходить в школу ежедневно, и этого оказывается достаточно, чтобы не дать ему почувствовать, что он это делает только по обязанности. Быть может, ребенок был бы счастливее, если бы смел осознать, что иногда ему и на самом деле хочется в школу, но иногда он идет только потому, что надо, приходится. Однако давление чувства долга достаточно сильно, чтобы вызывать у него ощущение, будто он хочет того, чего хотят от него. Обычно предполагается, что люди вступают в брак по желанию. Конечно, бывают случаи, когда женятся или выходят замуж по осознанному чувству долга, единственно по обязанности. Бывают и другие случаи, когда человек женится потому, что на самом деле он хочет этого. Но немало и таких случаев, когда человек осознанно полагает, что хочет жениться (или выйти замуж, все равно); на самом же деле он просто попал в такую полосу последовательных событий, которые неминуемо ведут к браку, не оставляя никакой другой возможности. В течение месяцев, ведущих к свадьбе, он твердо убежден, что ом хочет жениться, и первый - несколько запоздалый - намек на то, что это, быть может, не совсем так, появляется только в день свадьбы: на него вдруг нападает паническое желание удрать. Если он человек "здравомыслящий", то это чувство длится лишь считанные минуты; на вопрос, на самом ли деле он хочет жениться, он с неколебимой уверенностью ответит "да". Мы могли бы привести массу примеров из повседневной жизни, в которых людям кажется, будто они принимают решение, будто хотят чего-то, но на самом деле поддаются внутреннему или внешнему давлению "необходимости" и "хотят" именно того, что им приходится; делать. Наблюдая, как люди принимают решения, приходится поражаться тому, насколько они ошибаются" принимая за свое собственное решение результат подчинения обычаям, условностям, чувству долга или не- ; прикрытому давлению. Начинает казаться, что собственное решение - это явление достаточно редкое, хотя. индивидуальное решение и считается краеугольным камнем нашего общества. Я хочу привести еще один пример псевдожелания которое часто наблюдается при анализе людей без каких-либо невротических симптомов. Этот частный случай не связан с широкими общественными проблемами, которыми мы занимаемся здесь, но он позволит читателю, не знакомому с действием подсознательных сил, получить лучшее представление об этом феномене. Кроме того, этот пример явственно выявляет связь между подавлением психических актов и возникновением псевдоактов, о чем уже упоминалось выше, Обычно подавление рассматривают с точки зрения его роли в невротическом поведении, в сновидениях и т.п.; важно, однако, подчеркнуть, что всякое подавление уничтожает какую-то часть подлинной личности и вызывает подмену подавленного чувства псевдочувством. Человек, о котором пойдет речь, - студент-медик, двадцати двух лет. Он заинтересован своей работой и легко ладит с людьми. Нельзя сказать, чтобы он был как-то особенно несчастен, но он нередко чувствует некоторую усталость и у него нет особенного вкуса к жизни. Подвергнуться психоанализу его побудила профессиональная любознательность: он собирается стать психиатром. Единственная его жалоба состоит в том, что у него возникли некоторые трудности в учебе. Он часто забывает прочитанное, чрезмерно устает на лекциях и стал хуже сдавать экзамены. Это его удивляет, потому что во всем остальном он не может пожаловаться на память. Он вполне уверен, что хочет заниматься медициной, но часто сомневается, что сможет стать хорошим врачом. Через несколько недель он рассказывает сон, в котором он стоит на верхнем этаже построенного им небоскреба и оглядывает сверху окружающие здания с легким чувством торжества. Вдруг небоскреб рушится, и он оказывается под развалинами. Он понимает, что его спасут (развалины уже разбирают), но слышит, как кто-то говорит о нем, что он серьезно ранен и что скоро должен появиться врач. Врача приходится ждать целую вечность, а когда тот наконец появляется, то ничем не может ему помочь, потому что забыл свою сумку с инструментами. На него накатывает волна ярости к врачу, и вдруг оказывается, что он стоит на ногах и вовсе не ранен. Он высмеивает врача и в этот момент просыпается. В связи с этим сном у него возникает лишь несколько ассоциаций, но зато весьма многозначительных. Думая о построенном им небоскребе, он вскользь упоминает, что всегда интересовался архитектурой. В детстве строительные кубики долго оставались его любимой игрой, а в семнадцать лет он решил, что станет архитектором. Когда он сказал об этом отцу, тот по-дружески ответил, что сын, конечно, волен сам выбирать себе карьеру, но он (отец) уверен, что эта идея лишь отголосок его (сына) детских увлечений и что для него (сына) было бы лучше заняться медициной. Молодой человек решил, что отец прав, и никогда больше не заговаривал с ним на эту тему. И начал изучать медицину. Ассоциации по поводу врача, опоздавшего и забывшего инструменты, были расплывчаты и скудны. Однако в разговоре об этой части сна ему вспомнилось, что назначенное время его аналитического сеанса было передвинуто и что, хотя он не возражал против этого изменения, на самом деле был очень раздосадован. Вот и теперь, говоря об этом, он чувствует, как в нем снова пробуждается раздражение. Он обвиняет аналитика в произволе и вдруг заявляет: "Послушайте, вот я же не могу делать все, что хочу!" Он сам чрезвычайно удивлен и своим раздражением, и этой своей фразой, потому что до сих пор ни аналитик, ни занятия анализом не вызывали у него никакой неприязни. Через некоторое время ему снится еще один сон, из которого он запоминает только фрагмент. Его отец. ранен в автомобильной катастрофе; сам он - врач и должен оказать помощь отцу. Но когда он пытается осмотреть отца, то чувствует, что полностью парализован, что не может даже двинуться, и в ужасе просыпается. В своих ассоциациях он нехотя упоминает, что в последние годы у него появлялись мысли о возможности внезапной смерти отца и эти мысли его пугали. Иногда он думал даже о наследстве, о том, что бы он стал делать с этими деньгами. Эти фантазии особенно далекой его не заводили, поскольку он их подавлял тотчас же. Он сравнивает этот сон с предыдущим и поражается, что в обоих случаях врач не мог оказать никакой помощи. Теперь ему становится ясно, как никогда, что врач из него не получится. Когда ему напоминают, что в первом сне было чувство гнева и насмешки над бессилием врача, он вспоминает, что, услышав или прочитав о случае, когда врач оказался не в силах помочь пациенту, он испытывает какое-то злорадство, которого до сих пор не осознавал. В ходе дальнейшего анализа выявляется и другой материал, который все время подавлялся. К своему удивлению, он обнаруживает в себе сильное чувство гнева по отношению к отцу; а кроме того, выясняет, что его чувство бессилия |
|
© 2000 |
|