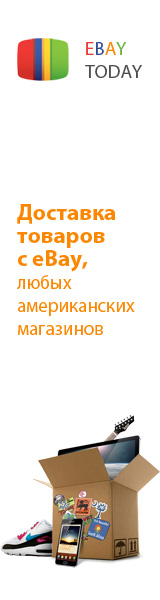|
РУБРИКИ |
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европы |
РЕКЛАМА |
||
|
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европысоциализм – одно и то же, то, конечно, Шпенглер более империалист, чем социалист. Цивилизация же мирового города начинает двигаться скорее в направлении осуществления мирового могущества и мирового царства, царства этого мира [более] через социализм, чем через империализм. * * * Наша эпоха имеет черты сходства с эллинистической эпохой. Эллинистической эпохой кончилась античная культура. И по мысли Шпенглера это был переход античной культуры в цивилизацию. Таков рок всякой культуры. И для нашей эпохи, и для эпохи эллинистической одинаково характерно взаимодействие Востока и Запада, встреча и сближение всех культур и всех рас, синкретизм, универсализм цивилизации, ощущение конца, заката исторической эпохи. И в нашу эпоху цивилизация Запада обращается на Восток, и перекультурные люди этой цивилизации ищут света с Востока. И в нашу эпоху в разнообразных теософических и мистических течениях происходит смешение и синкретическое объединение разных верований и культов. И в нашу эпоху есть воля к мировому объединению в империализм, и та же воля находит себе выражение в социализме. Культуры и государства перестают быть национально замкнутыми. Индивидуальность культур переходит в универсальность цивилизации. И в нашу эпоху есть жажда верить и бессилие верить, жажда творить и бессилие творить. И в нашу эпоху преобладает александризм в мысли и творчестве. В истории чередуются дневные и ночные эпохи. Эллинистическая эпоха была переходом от дневного света эллинского мира к ночи средневековья. И мы стоим у грани новой ночной эпохи. День новой истории кончается. Рациональный свет ее гаснет. Наступает вечер. И не один Шпенглер видит признаки начинающегося заката. По многим признакам наше время напоминает начало раннего средневековья. Начинаются процессы закрепощения, подобные процессам закрепощения во времена императора Диоклетиана. И не так неправдоподобно мнение, что начинается феодализация Европы. Процесс распадения государств совершается параллельно универсалистическому объединению. Совершаются огромные передвижения и перераспределения масс человеческих. И может наступить новый хаос народов, из которого не так скоро образуется космос. Мировая война вывела Западную Европу из ее привычных, установившихся берегов. Серединная Европа внутренно разбита. Силы ее не только материально, но и духовно подорваны. Цивилизация через империализм и через социализм должна разлиться по поверхности всей земли, должна двигаться и на Восток. К цивилизации будут приобщены новые массы человеческие, новые слои. И новое средневековье будет цивилизованным варварством, варварством среди машин, а не среди лесов и полей. Величие и священные традиции культуры войдут внутрь. Истинной духовной культуре может быть придется пережить катакомбный период. Истинной духовной культуре, изжившей свой ренессанский период, исчерпавшей свой гуманистический пафос, придется вернуться к некоторым началам религиозной культуры средневековья, не варварского средневековья, а культурного средневековья. На путях новой, гуманистической, ренессанской истории все уже исчерпано. Фауст на путях внешней бесконечности стремлений исчерпал свои силы, истощил свою духовную энергию. И ему остается движение к внутренней бесконечности. В одном своем аспекте Фауст целиком должен отдаться внешней материальной цивилизации, цивилизованному варварству. В другом своем аспекте он должен быть верен вечной духовной культуре, символическое существо которой выражено мистическим хором в конце второй части “Фауста”. Такова судьба фаустовской души, судьба европейской культуры. Будущее двоится. У Шпенглера преемственность духовной культуры прерывается. Она как будто бы целиком переходит в цивилизацию и умирает. Шпенглер не верит в пребывающий смысл мировой жизни, не верит в вечность духовной действительности. Но духовная культура, если и погибает в количествах, то сохраняется и пребывает в качествах. Она была пронесена через варварство и ночь старого средневековья. Она будет пронесена и через варварство и ночь нового средневековья до зари нового дня, до грядущего христианского Возрождения, когда явятся Св. Франциск и Данте новой эпохи. * * * Истины науки для Шпенглера не безотносительные истины, это лишь относительные истины культуры, культурных стилей. И истины физики связаны с душами культуры. Очень замечательна глава о фаустовском и апполоновском естествознании. Для нашей научной эпохи характерно могучее развитие физики. В физике происходит настоящая революция. Но открытия, которые делает физика нашей эпохи, характерны для заката культуры. Энтропия, связанная с вторым законом термодинамики, радиоактивность и распадение атомов материи, закон относительности – все это колеблет прочность и незыблемость физико- математического миросозерцания, подрывает веру в длительное существование нашего мира. Я бы сказал, что все это – физический апокалипсис, учение о неизбежности физического конца мира, смерти мира. Лишь в эпоху заката европейской культуры возникает такое “апокалиптическое” настроение в физике. Какая разница с физикой Ньютона! Ньютон не в физике своей давал свои толкования Апокалипсиса. Физика наших дней может быть названа предсмертной мыслью Фауста. Прочности нельзя искать в физическом миропорядке. Физика постановляет смертный приговор миру. Мир погибнет в равномерном распределении тепловой энергии во вселенной, энергии необратимой в другие формы энергии. Энергии творческие, создающие многообразие космоса, идут на убыль, Мир погибнет от неотвратимого и непреодолимого стремления к физическому равенству. И не есть ли стремление к равенству в мире социальном та же энтропия, та же гибель социального космоса и культуры в равномерном распределении тепловой энергии, не обратимой в энергию, творящую культуру? Размышление над темами, поставленными Шпенглером, наводит на эти горькие мысли. Но горечь этих мыслей не должна быть безысходной и мрачной. Не только физике, но и социологии не принадлежит последнее слово в решении судеб мира и человека. Утеря незыблемости физической не есть безвозвратная утеря. В духовном мире нужно искать незыблемости. В глубине нужно искать точки опоры. Мир внешний не имеет бесконечных перспектив. Безумие в нем устраиваться на веки веков. Но открывается бесконечный внутренний мир. И с ним должны быть связаны наши надежды. * * * В большой книге Шпенглера ничего не говорится о России. Только в оглавлении проектируемого второго тома последняя глава называется: “Das Russentum und die Zukunft”. Есть основание думать, что Шпенглер в русском Востоке видит тот новый мир, который идет на смену умирающему миру Запада: в его книжке “Preussentum und Sozialismus” посвящено России несколько страниц. Россия для него – таинственный мир, непостижимый для мира западного. Душа России еще более далекая и непроницаемая для западного человека, чем душа Греции или Египта. Россия есть апокалиптический бунт против античности. Россия – религиозна и нигилистична. В Достоевском открывается тайна России. На Востоке можно ожидать появления нового типа культуры, новой души культуры. Хотя это и противоречит представлениям о России, как стране нигилистической и враждебной культуре. В мыслях Шпенглера, до конца еще невыявленных, есть какое-то вывернутое наизнанку, с противоположного конца утверждаемое славянофильство. Нам интересны эти мысли, эта обращенность Запада к России, эти ожидания, связанные с Россией. Мы находимся в более благоприятном положении, чем Шпенглер и люди Запада. Для нас западная культура проницаема и постижима. Душа Европы не представляется нам далекой и непонятной душой. Мы с ней во внутреннем общении, мы чувствуем в себе ее энергию. И в то же время мы русский Восток. Поэтому кругозор русской мысли должен быть шире, для нее виднее дали. Философия истории, к которой обращается мысль нашей эпохи, должна с большим успехом разрабатываться в России. Философия истории всегда была основным интересом русской мысли, начиная с Чаадаева. То, что переживаем мы сейчас, должно окончательно вывести нас из замкнутого существования. Пусть сейчас мы еще более отбрасываемся на Восток, но в конце этого процесса мы перестанем быть изолированным Востоком. Что бы ни было с нами, мы неизбежно должны выйти в мировую ширь. Россия – посредница между Востоком и Западом. В ней сталкиваются два потока всемирной истории, восточной и западной. В России скрыта тайна, которую мы сами не можем вполне разгадать. Но тайна эта связана с разрешением какой-то темы всемирной истории. Час наш еще не настал. Он связан будет с кризисом европейской культуры. И потому такие книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем европейским людям. Это – нашего стиля книга. Глава 6 Непреодоленный рационализм. __________ Шпенглера трудно передать, его надо самому почувствовать, освоиться с ним, сжиться. Раз начавши изучать его, можно либо бросить на втором десятке страниц, либо быть увлеченным до конца. Деловито прочесть его, как читают серьезную книгу, значит пройти мимо него. Не поддаться на время тончайшему соблазну его философской пышности – значит ничего не увидеть из мира его идей. Его манера, лицо, стиль настолько неотделимы от насыщенного содержания книги, что характеризовать все это и, тем более, логически расчленять и критиковать – почти то же, что рассудочно писать о симфоническом произведении. Шпенглер не творец философской с и с т е м ы: его “[Der ]Untergang des Abendlandes” – несомненно философская с и м ф о н и я, в которой развиваются глубочайшие темы истории, судьбы мирового процесса, современности. Все эти проблемы раскрываются им, как проблемы генетического характера. Мысль его проникнута убеждением, что все с у щ е е с т а н о в и л о с ь (alles was ist, auch geworden ist), что в основе всего естественного и поддающегося познанию лежит элемент историчности; в основе мира, как реальности, лежит “Я”, как возможность, в нем осуществившаяся; что не только вопрос: “что”, но и вопросы “когда” и “как долго” – содержат в себе глубокую тайну, и все это приводит к тому факту, что всякое явление, каково бы оно ни было, должно быть в ы р а ж е н и е м ч е г о - т о ж и в о г о. В ставшем отражается становление (Im geworden spiegelt sich das Werden). В старой формуле esse est percipi сквозит первобытное ощущение, что все существующее должно стоять в решающем отношении к ж и в о м у человеку и что для мертвого ничего здесь более не существует. “Покинул” ли он мир, с в о й мир, или у п р а з д н и л с в о е й с м е р т ь ю с у щ е с т в о в а н и е м и р а? Вот в чем вопрос. Размышляя так над миром, п о н и м а е м ы м к а к и с т о р и я, Шпенглер опирается на Гете. Великий художник, описывая возникавшие у него образы в их развитии, изображал то, что становится, а не то, что завершилось. Гете ненавидел математику, потому что в математике – миру, как организму, противопоставляется мир, как механизм, живой природе – мертвая природа, форме – закон. Гете-естествоиспытатель изображал отчеканенную форму в процессе ее развития (“geprдgte Form, die lebend sich entwickelt”), наблюдал развитие форм растений, происхождение позвоночных животных, отложение геологических пластов, – словом, с у д ь б у п р и р о д ы, а н е е е п р и ч и н н ы е с в я з и. Вот эти способы, к которым прибегал Гете, чтобы проникнуть в тайны явлений – способы наблюдения, переживания, сравнения, непосредственной внутренней достоверности, точного чувственного воображения – Шпенглер считает настоящими средствами в с я к о г о в о о б щ е и с т о р и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я и из всего комплекса чувственно восприемлемых деталей, – раскрывает язык форм человеческой истории, ее периодическую структуру, дыхание самой истории. Но можно ли сказать, что Шпенглер дает нам философию истории в том смысле, что выясняет смысл исторического процесса, в связи с тем, что вечно, совершенно, абсолютно? Похожа ли его художественная метафизика на философское и религиозное умозрение, которое ищет не только смысла исторического процесса, но и завершения, исполнения истории? Надо ли понимать, что он продолжает в какой-либо степени историософскую традицию от Бл. Августина, видевшего в историческом процессе исполнение Божьего предначертания, или ведет свою преемственность от Гердера, исходившего из единого процесса развития человечества, которое является продолжением органического мира; или, может быть, в Шпенглеровской философии истории есть что-нибудь похожее на постижение исторического путем сопереживания, вживания (Einfьlung) в исторический процесс вроде Дильтея, или на философско-религиозные построения Фихте, Шеллинга, Гегеля? Во всех этих известных нам попытках философии истории есть искание с м ы с л а и с т о р и и, предполагается с у б ъ е к т мировой истории – человечество, наконец, разумеется, е д и н с т в о исторического процесса. Ничего этого не признает Шпенглер. Тщетно искать у Шпенглера с м ы с л а и с т о р и ч е с к о г о. Он не дан ни и формулировке, не раскрыт и по всему философскому замыслу. Шпенглер прямо говорит, что жизнь не имеет никакой цели. “Человечество не имеет никакой “цели”. Существование мира, в котором мы на нашей маленькой планете составляем маленький эпизод, есть нечто более значительное, – говорит он в другом своем сочинении “Preussentum und Sozialismus”, – чем “жалкое счастье большинства, как смысл и цель. В целесообразности заключается огромность мировой игры”. Шпенглер отрицает существование человечества, как с у б ъ е к т а и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а. Человечества нет; есть – египтяне времен Рамзеса II, лангобарды VI-IХ века, франки, саксонцы, арабы. Человечество для Шпенглера есть лишь “зоологическая величина”. “Поскольку дело идет о так называемой цели человечества, – говорит он в своем ответе критикам (“Pessimismus”), – я являюсь принципиальным и решительным пессимистом, я не вижу никакого прогресса, никакой цели, никакого особого пути человечества”. Наконец, нет е д и н с т в а и с т о р и ч е с к о г о п р о ц е с с а; есть лишь одинокие, замкнутые, завершенные круги, организмы отдельных культур, их души каждая со своей “перводушевностью” (Urseelentum). Государственная идея древности и современности – совершенно разные вещи, и бесплодно трактовать о задачах государства, как такового. Точно также нет единой математики. Число, как величина, мера – в античном мире совсем не то, что число, как функция – в современности. Или – этика… Нет единой общечеловеческой этики. Каждая культура имеет свой собственный этический критерий, действие которого с нею начинается, с нею кончается. Наконец, – философия… нет философии вообще; каждая культура имеет свою собственную философию, которая есть часть ее общего символического выражения, – кусок ее осуществленной душевности. Нет вечных вопросов, есть лишь вопросы, существующие для каждой исторически-индивидуальной культуры, в ней они чувствуются, ею ставятся. Западно-европейский мыслитель страдает, по мнению Шпенглера, коренным заблуждением: он не понимает исторически относительного характера своих выводов, типичных для определенной и только этой одной категории людей; не сознает необходимых границ обязательности его взглядов; не отдает себе отчета в том, что его “неопровержимые истины” и “вечные суждения” истинны только для него и вечны только с точки зрения его миросозерцания, и что на нем лежит обязанность подняться выше всего этого и поискать тех истин и суждений, которые высказаны были с такой же уверенностью людьми других культур. В этом сознании, думает Шпенглер, будет полнота и совершенство будущей философии. Лишь это значит проникнуться пониманием живых форм истории, форм живой вселенной. Здесь нет ничего постоянного и всеобщего. Нужно оставить разговоры о формах мышления вообще, о принципах трагического, или о задачах государства. Обще-обязательное есть лишь ошибочное перенесение с себя на других своих субъективных умозаключений. Шпенглер не жалеет резких слов по адресу современных мыслителей с их “узким историческим горизонтом”, с их “шаблонным кругом идей”, который не идет дальше римлян, греков, ренессанса, современности, короче говоря, зиждится на схеме: древний мир – средневековье – новое время. “Но можно ли на этом основании, – вопрошает он, – философствовать о мире? Значит ли это заниматься исследованием человеческой истории в о о б щ е? Стоят ли чего-нибудь суммарные, якобы мирообъемлющие, построения Ницше, который ничего не знал об Египте, Вавилоне, России и Китае? В каком отношении находится, например, понятие дионисовского у Ницше к внутренней жизни высоко цивилизованных китайцев эпохи Конфуция или современных американцев? Какое значение имеет тип “сверхчеловека” для магометанского мира? Какую роль могут играть в духовной жизни индуса или русского, понятия о языческом и христианском, о природе и духе, об античном и современном? Что общего у Толстого, отвергнувшего весь западно-европейский мир идей, как нечто для него чуждое и далекое, – с “средневековьем”, Данте, Лютером, у японца – с Парсифалем и Заратустрой, у индуса – с Софоклом? Разве вся психология Шопенгауэра, Канта, Фейербаха, Геббеля, Стриндберга не является по своему значению исключительно западноевропейской? Какое комичное впечатление, – говорит он, – производят Ибсеновские женские проблемы, претендующие также на внимание всего “человечества”, если на место знаменитой Норы, дамы протестантского воспитания из большого города Северо- Западной Европы, с кругозором, соответствующим наемной квартире с платой от 2 до 6 тыс.[яч] марок в год, поставить жену Цезаря, мадам де Савиньи, японку или тирольскую крестьянку? Все эти проблемы и ценности чисто эпизодические и местные, в большинстве случаев относятся исключительно к современной интеллигенции больших городов западно-европейского типа; в них нет решительно ничего всемирно-исторического и вечного. Все, что до сих пор было сказано и передумано в западной Европе о проблемах пространства и времени, движения, числа, воли, брака, собственности, науки, трагедии – является узким и сомнительным, ибо во всем этом стремились найти р е ш е н и е в о п р о с а в о о б щ е, вместо того, чтобы понять, что существует множество ответов для множества вопрошающих; что философский вопрос представляет собою только скрытое желание получить определенный, уже в самом вопросе содержащийся, ответ; что к великим вопросам данной эпохи надо относиться как к чему-то призрачному и что, следовательно, необходимо допустить существование г р у п п ы и с т о р и ч е с к и - о б у с л о в л е н н ы х р е ш е н и й, и только о б з о р их – при полном устранении личных убеждений может раскрыть последние тайны. Для истинного мыслителя не существует абсолютно правильных или абсолютно неправильных точек зрения. Перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, недостаточно обращаться к личному опыту, внутреннему голосу, разуму, мнению предшественников, или современников. Таким способом можно узнать только, что является истинным для самого себя, для своего времени; но это далеко не все. Иные культуры – иное выражение, иные люди – иные истины. Для мыслителя эти истины либо все действительны, либо ни одна из них недействительна”. Таков пафос исторического релятивизма Шпенглера; релятивизм исторический превращается в философский, как это мы знаем в древности у софистов, скептиков, а в новое время – у вульгарных релятивистов вроде Спенсера, утверждавшего, что все наше познание относительно. У таких релятивистов самое отрицание абсолютного возводится в абсолют, как у Л. Штейна, утверждавшего, что “относительное есть единственный абсолют, нам известный”. Отвергая современную философию, как нечто психологически чуждое Шпенглеру, с его методом художественного проникновения, и забронировав себя тем самым от обычных приемов логической критики, он в то же время удивительно обнажает для самых легких нападок существенные места своего организма образов и слов. Поскольку его релятивизм становится типом известного нам философского релятивизма, он не защищен от самой банальной недоуменной критики, не менее убедительной, чем его яркие критические вопрошания. Но Шпенглер не только р е л я т и в и с т. Он ощущает себя до конца как с к е п т и к. Он прямо так и говорит о себе. После перечисления настоящий, действительных, по его мнению, философов ХIХ века с волей к власти, к жизни, с тягой к практико-динамическим началам жизни, – философов, раскрывших, по его мнению, драматические образы действительности (Шопенгауэр, Прудон, Геббель, Маркс, Вагнер, Дюринг, Ибсен, Ницше, Стриндберг, Вейнингер, Бернард Шоу), он приходит к выводу о возможной жизненности последнего акта европейской философии; он формулирует его как и с т о р и к о - п с и х о л о г и ч е с к и й с к е п т и ц и з м. Тайна мира появляется постепенно, как проблема познания, оценки (Wertproblem) и как проблема формы. Кант понимал этику, как предмет познания; ХIХ-й век понимал ее, как предмет оценки. Скептик оба эти понимания рассматривает, как исторические феномены. Естественно, что систематическая философия бесконечно чужда Шпенглеру. Для него не существует здесь проблемы противопоставления исторического, как феноменального, какой-то действительности, как ноуменальной, сокровенной. Рассматривая м и р, к а к и с т о р и ю, созерцая судьбу исторического и как бы приобщая его к метафизическому миру, он в то же время далек от признания того, что историческое ноуменально, онтологично, что человеческая судьба есть какое-то откровение об этой действительности. Он не дает также никаких оснований думать, что историческое бытие в своем метафизическом начале предрасположено к реализации того, что д о л ж н о б ы т ь. Здесь вступил бы уже акт веры, приобщения к Божеству, где необходимость перестает быть неволей, а свобода перестает быть произволом. Но Шпенглер арелигиозен… Он чистейший ф е н о м е н о л и с т. Оставляя позади “этически завершенную философию”, он ставит новую возможность, соответствующую греческому скептицизму, которую характеризует, как неизвестный до сих пор метод с р а в н и т е л ь н о и с т о р и ч е с к о й м о р ф о л о г и и. Но морфология Шпенглера не похожа на то, что мы понимаем под этим, хотя бы в ботанике со времен Шлейдена. Замечательно то, что морфология здесь дается б е з с и с т е м а т и к и, оставляя какую-то методологическую неудовлетворенность всей архитектоникой Шпенглеровской мировой истории. Если можно говорить о системе у Шпенглера, то, конечно, не о системе понятий; было бы неверно сказать также – слов. Мы входим с ним в систему символов, образов, и в этом смысле релятивиста и скептика Шпенглера можно назвать великим с и м в о л и с т о м… М о р ф о л о г и я м и р о в о й и с т о р и и н е о б х о д и м ы м о б р а з о м с т а н о в и т с я у н е г о у н и в е р с а л ь н о й с и м в о л и к о й. Основной рычаг постижения всей мировой истории составляют именно его симметричные ряды, стройные шеренги символов. Иногда это напоминает симметричность и педантичность Данте. Как будто та же таинственная символика. Трехстрочная строфа. Три кантики “Комедии”. По 34 песни на “Ад”, “Чистилище”, “Рай”. Три символических жены. Три цвета, в которые облечена Беатриче. Три символических зверя. Три пасти Люцифера. Тройственное распределение ада с девятью кругами. Девять уступов чистилища и девять небесных сфер… Но может ли сравниться вращающаяся сцена мировой истории, представленная Шпенглером, его пышная многогранность, культурная мозаика, историческая кусочность с цельным, счастливо органическим, утверждающим себя в гармонии и полноте миросозерцанием великого флорентийца? Систему Шпенглеровских двухрядных образов можно сравнить с Ницше, которого он так критикует и которым он так напитался. Аполлон – Дионис. Стоики – Эпикурейцы. Спарта – Афины. Сенат – Плебс. Трибунат – Патрициат. Для Ницше это были страстные образы, полные значительности и трагичности. Не методом служили они ему, не аппаратом познания, а подлинными философско- поэтическими, близкими сердцу знаками о мире, о жизни, о борьбе, о судьбе человека. Совсем не то у Шпенглера. Душа – Мир. Возможность – Действительность. Становление – Ставшее. Устремленность – Протяженность. Органическое – Механическое. Судьба – Причинность. Символ, образ – Число, понятие. История – Природа. Физиономика – Систематика. Религия – Наука. Искусство – Физика. и т. д. Можно варьировать эту двойную механику образов, служащую Шпенглеру аппаратом познания, ключом к тайнам мира. Здесь нет ни тоски, ни борьбы, ни трагичности Ницше; наоборот, полное успокоение, безразличие, деловая четкость в образах, глубина и мудрость д в о й н о й б у х г а л т е р и и – этой неоцененной еще доныне символической науки. Его образы могут выстраиваться в пропорциональные ряды, и проделав с Шпенглером весь цикл путешествий по разным кругам культур, легко комбинируешь эти пропорции. Формы “становления”, “жизни”, например, так относятся к формам “ставшего”, “познания”, как “органическое” относится к “механическому”, как “физиономика” – к “систематике”, “судьба” – к “причинности”, “время” – к « пространству» , как “этика” к “логике” и т. д. Вот этот ряд: Этика = Органическое = Судьба = Физиономика, Логика Механическое Причинность Систематика Судьба = Время. Причинность Пространство Сжившийся с Шпенглером читатель черпает из этих формул некоторую силу для своего воображения, но в этих образах нет никакой физической силы, прочности. На них ничего не построишь. Они призрачны и бесплодны* . Не разрешая проблемы времени и пространства при помощи символов судьбы и причинности, вы ощущаете лишь дразнение разума и остаетесь разочарованным холодностью и сухостью Шпенглеровского рассудка. Что остается у вас от пышного цветения, глубочайшего созерцания и погружения во все эти культурно- исторические “перводушевности”? Художественная напряженность, полет исторической фантазии, возбужденный позыв любомудрия – все это как-то рассеивается от прикосновения к рационалистическому стержню Шпенглеровской философии. Художественный алогизм оказывается разновидностью рационализма. Символика и романтика оказываются цветистой игрой холодного разума – ни души, ни жизни, ни истины. У Шпенглера нет определенного волеустремления, хотя он все время говорит о “воле к жизни”, нет ясной интенции его сильного разума, и если я сравнил его “Закат Европы” с симфоническим произведением, если я ощутил его контрапунктичность, то в результате усвоения его перемежающихся тем я не нашел того, что бывает в обычном контрапункте, где идущие самостоятельно голоса и темы объединяются в нашем понимании в их отношении к одному созвуку, к основному голосу (cantus firmus). В симфонии Шпенглера отсутствует cantus firmus. Все это обесценивает жизненность его философии. Между тем, требование ж и з н е н н о с т и есть основное требование, предъявляемое им ко всякой философии. Разоблачая “вечные истины”, Шпенглер видит суть дела не в различии между бессмертными и преходящими учениями, а в том, что существует вообще только либо такие учения, которые являются жизненными в течение известного периода времени, либо такие, которые никогда не были жизненными. Научный костюм, ученая маска философии ничего тут не решают. “Нет ничего легче, – говорит сам Шпенглер, – как взамен отсутствующих мыслей создать систему. Но даже верная мысль имеет мало цены, если она высказана поверхностным умом. Значение какого-нибудь учения определяется исключительно степенью его необходимости для жизни”. Вот почему пробным камнем для испытания ценности мыслителя Шпенглер считает обнаруживаемую им степень понимания великих фактов своего времени. “Только тут выясняется, является ли кто-нибудь просто искусным конструктором систем и принципов, с ловкостью и начитанностью разбирающимся в разных дефинициях и анализах, или же устами его произведений и интуицией говорит сама душа эпохи. Философ, который не охватывает действительности и не господствует над ней, не будет крупным философом. Философы до- Сократовского времени были политиками и купцами большого стиля. Платону едва не стоило жизни то, что он хотел осуществить в Сиракузах свои политические идеи. Он же открыл ряд геометрических теорем, благодаря которым Евклид получил возможность построить систему античной математики. Паскаль, которого Ницше знал только, как “надломленного христианина”, Декарт, Лейбниц были первыми математиками своего времени» . Всех их Шпенглер противопоставляет философам последнего времени. Существенным недостатком последних было то, что они не занимали решающего места в действительной жизни. Никто из новейших философов не оказал, хотя бы одним делом, одной мощной мыслью решающего влияния на высшую политику, на развитие современной техники, путей сообщения, народного хозяйства, на какой-либо из видов богатой действительности. Шпенглер перебирает старых философов: Аристотеля, который мог бы, по его мнению, заведовать, подобно Софоклу, финансами в Афинах; Гете, который был образцовым министром, но, к сожалению, в маленьком государстве; он высоко ценит то, что Гете понимал в свое время коммерческое значение Суэцкого и Панамского каналов (Гете предвидел время осуществления последнего); Гоббс – участник образования английской колониальной империи; Лейбниц, положивший основание дифференциальному исчислению, в то же время понимал значение Египта для французской политики, роль Суэцкого перешейка и имел глубокие политические и стратегические соображения… Всем этим жизненным умам старых философов Шпенглер противопоставляет будничность, узость практических горизонтов у современных мыслителей. Он с презрением восклицает: “Не возбуждает ли жалость одна мысль о том, чтобы кто-нибудь из них показал свои таланты в качестве государственного деятеля, дипломата, крупного организатора, руководителя какого-нибудь огромного, колониального коммерческого или транспортного предприятия. Но это не свидетельствует о внутреннем превосходстве, а скорее о легковесности. Тщетно озираюсь я и ищу, кто из них создал себе имя, хотя бы одним глубоким и прозорливым суждением в вопросе, имеющем решающее значение для современности. И я наталкиваюсь только на провинциальные взгляды, на мнения, какие имеет каждый обыватель. Когда я беру в руки книгу какого-нибудь современного мыслителя, то задаюсь вопросом, какое он вообще имеет представление, – кроме катедерской или пустой партийной болтовни, соответствующей уровню среднего журналиста, которую можно встретить у Бергсона, Гюйо, Спенсера, Дюринга, Эйкена – о фактической стороне мировой политики, о великих проблемах мировых городов, капитализма, будущности государства, об отношении техники к концу цивилизации, о русском вопросе, о вопросах науки вообще”. И Шпенглер с пафосом полного жизни практика бичует бесплодие современной философии. “Очевидно, – констатирует он, – утерян всякий смысл философской деятельности. Смешивают ее с проповедью, агитацией, фельетоном, или научной специальностью. От перспективы птичьего полета опустились до уровня лягушечьей перспективы. Речь идет ни о чем ином, как о вопросе, возможна ли вообще сегодня или завтра настоящая философия. В противном случае разумнее стать плантатором или инженером, чем-нибудь истинным и реальным, нежели пережевывать затасканные темы под предлогом “нового подъема философского мышления”; и лучше сконструировать новый двигатель для летательного аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции… За поразительно ясные, высоко интеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, прецизионной машины, за тонкость и изящество некоторых химических и оптических процессов я готов отдать всю стильную дребедень современной художественной промышленности, вместе с живописью и архитектурой”. Откуда же у человека с фаустовской душой такой пафос цивилизации? Откуда воля к практическому деланию? К осушению болот Фауст приходит в результате успокоения. Это успокоение, завершение, конец культуры; между тем, Шпенглеровский пафос устремлен в некую перспективу творчества, подъема, расцвета, этого практического делания. Как вяжется этот оптимизм в отношении цивилизации с пониманием ее сущности? Ведь цивилизация есть “смерть культуры”, ее “склероз”, “окостенение”. Эти недоумения возникают под впечатлением его художественного анализа и противопоставления культуры и цивилизации, может быть, наиболее ценного во всей книге. Здесь действует тот же аппарат постижения, система двойных символов. Культура – Цивилизация. Становление – Ставшее. Прочувствованная история – Познанная природа. Организм – Механизм. Душа – Мозг. Этическое – Логическое. Одухотворенное тело – Мумия. Этот водораздел проходит до последней глубины и дает много для полноты художественного анализа. Шпенглер утверждает, что одной из главных причин – почему в хаотической картине исторических явлений не была выяснена истинная структура истории, заключается в неумении отделить один от другого взаимно друг друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизованного существования. И он прав. Правда, нам, русским, это противопоставление не только не было чуждо; оно давало нам всегда духовную опору для практического ничегонеделания. Вся общественная мысль России в течение ХIХ века проникнута была экстенсивным, морализирующим, просто отрицательным отношением к цивилизации, и этот народнический пафос, свойственный всем решительно течениям вплоть до прямо враждебных народничеству, неизменно питался этим противопоставлением русского, самобытного, духовного, культурного – всему западному, шаблонному, материальному, цивилизованному. Но подобно тому, как сознание этой противоположности недостаточно было русским людям, чтобы делать культуру, потому что никакие богатства и глубины культуры не могут раскрыться без цивилизации, так и у Шпенглера – художественная правда о культуре и цивилизации не только не пробуждает дух цивилизаторского творчества; напротив, она должна умерщвлять его, потому что смерть не может быть источником жизни. Раз цивилизация следует за культурой, как смерть за жизнью, как окоченение за развитием, как духовная старость и каменный мировой город за властью земли и за душевным детством, то чем же живет и дышит цивилизация? Пусть она “римский интеллект”, а не греческая душа, пусть постепенная ломка ставших неорганическими [“]омертвевших форм”, пусть “мировой город”, а не близкая к земле провинция… сколько бы образов Шпенглер ни давал, вплоть до образа смерти, – в цивилизации ведь есть своя большая жизнь, и сам Шпенглер не только не хочет жить ею, не только примиряется, но и вдохновляет себя и нас: на дренаж, на мореплавание, на политику и машиностроение. “Энергия духовного человека, – говорит он, – направляется вовнутрь; энергия цивилизованного человека вовне”. Ему очень нравится Сесиль Родс, первый человек нового времени, со своим утверждением: “расширение – это все”. Цивилизация в чистом виде есть империализм; наконец, видимый противник экспансии – социализм становится, по его мнению, ее носителем. Спрашивается, живы же чем-нибудь социализм, империализм, Родсы, Морганы, Сименсы, Карнеджи, наконец, Бисмарк и Фридрих Вильгельм, которых Шпенглер считает настоящими социалистами, в противовес манчестерскому социализму марксистского типа, или все они носители мозгового, логического, механического, познавательного, мертвого, мумиального? Здесь что-то не совсем ясное у Шпенглера. Дойдя глубиной своего созерцания, казалось бы, до последних тайн исторического процесса, смотря в лицо самой смерти западно-европейской культуры, Шпенглер непонятно откуда черпает силы, по крайней мере, убеждает нас в том, что их надо в себе найти для деловой цивилизаторской работы. “Если люди нового времени, нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореплавание вместо живописи, за политику вместо теории познания, они сделают то, что соответствует моим желаниям и ничего лучшего им пожелать нельзя”. Если европейскому человечеству не предстоит больше иметь ни великой живописи, ни великой музыки и его архитектонические возможности уже исчерпаны; если Шпенглер сравнивает современные культурные искания с заблуждением людей, которые стоят перед истощенным рудником и тешат себя тем, что здесь завтра открыта будет новая жила, вместо того, чтобы искать новую, лежащую по соседству залежь, то – как представить себе духовные корни этой новой работы над новыми источниками, если все это не похоже на прежнюю разработку истощенного рудника? Одно из двух: или цивилизация – смерть культуры, тогда нельзя сравнивать ее, как новую залежь с истощенным рудником, тогда нельзя звать к технике и к практической работе; или она есть жизнь, которая имеет свои духовные корни, следовательно, духовную преемственность с культурой, ее истоками и дальнейшим развитием. Шпенглер хочет, чтобы мы ощутили величие цивилизаторской деятельности, энергию и дисциплину закаленных, высокоинтеллектуальных натур великих промышленных деятелей: он иронизирует над идеализмом провинциала, который “стремится воскресить стиль жизни минувших времен”, и в то же время он всем своим художественным творчеством раскрывает нам смысл цивилизации, как конца культуры. “Не отчаяться в будущем, в жизни должны мы, но полюбить эту судьбу”, вдохновиться ею, понять величие нашей цивилизаторской работы. Во всем этом чувствуется какой-то надлом, какой-то объективный трагизм волеустремления, и при этом – ни тоски, ни грусти; напротив, – огромное самоутверждение познавшего все тайны разума. Но не только в сфере субъективно-волевой, но и в объективно-причинной есть несоответствие в Шпенглеровском понимании цивилизации и культуры. Если каждая культура имеет свою цивилизацию, то каким образом складывается однообразие цивилизации в современном мире фрагментов разных культур? Как одинаковым образом происходит делание цивилизации у народов, завершающих цикл культурного развития, и народов, познающих только впервые радости культурного пробуждения? Совершают ли один и тот же акт бездушной цивилизации англичане, строющие электрическую станцию; чилийцы, проводящие перевалочную электрическую дорогу; индусы, сооружающие огромную водную турбину на Ганге для гидроэлектрической установки, или наши черемисы, электрифицирую[щие ска]зать о соотношении культуры и цивилизации одно и то же, когда последняя вырастает органически в процессе развития культурно-исторического народа, или когда заимствуется, импортируется из чужих стран, как, например, европейская цивилизация в Японии, Аргентине, в Индии? Как познается, наконец, чужая культура, если моя судьба связана с судьбой, с происхождением, с перводушевностью м о е й культуры? “Сопереживание”, “вчувствование”, здесь недостаточны для объяснения. Очевидно, при выяснении этого с в о е г о и ч у ж о г о в культуре, а также своей культуры и чужой цивилизации, открываются с убедительной ясностью какие-то у н и в е р с а л ь н ы е моменты человеческой культуры. Шпенглер их обходит, или, может быть, не видит. Поэтому, отчасти он так мало понимает в христианстве, которое по природе своей универсально. Идея Богочеловека и Воскресения одинаково воспринимается всеми верующими христианами Лондона, Чикаго, Москвы и Капстада. В Шпенглере поразителен, вообще, религиозный “идиотизм”, и хотя силой своего эстетизма он видит готические соборы, “эти пути восхождения к Богу, своды которых хотят разомкнуться и слиться с небом”, но он совершенно не понимает, чту происходит в этих пространствах, заключенных под сводами. Местами проскальзывают у него намеки на эту универсальность христианской церкви. “Только церковь несет в себе старую, испанскую универсальную идею народов под тенью католицизма”** , но в корне он совершенно безрелигиозен, да и сам сознается в этом. “Мы, люди Запада, религиозно конченные. В наших городских душах прежняя религиозность давно превратилась в интеллектуальные проблемы. Церковь кончилась Тридентинским Собором. Из пуританизма возник капитализм, из пиетизма – социализм. Англо-американские религиозные секты обнаруживают лишь душевную потребность нервных деловых людей в занятиях богословскими вопросами» . Шпенглер обходит также (по крайней мере, в первом томе) роль иудаистической культуры, с ее национальным и в то же время универсальным монотеизмом, с всемирностью библейского Бога-покровителя. Совершенно в тени остаются у него основы “магической” культуры, которую он выделяет, и душа которой остается загадочной. Интересно также, что, говоря вскользь о России*** , он игнорирует, не придает значения тому, что в ней сродни европейскому человечеству. Русские, по его мнению, вообще не такой народ, как немцы или англичане; в нем заключена возможность образования в будущем нескольких народов, как в германцах эпохи Каролингов. Сущность России есть “обетование грядущей культуры”. “Нельзя провести достаточно резкой грани между русским и западно- европейским духом. Как бы глубоки ни были душевные, а также религиозные, политические и экономические различия между англичанами, французами, немцами и американцами, – при сопоставлении с Россией – эти народы, – по мнению Шпенглера, – тотчас же сливаются в одно целое”. “Подлинный русский нам внутренне также чужд, как римлянин периода царей или китаец до- Конфуциевой эпохи, если бы тот или другой могли предстать пред нами. Только Достоевский дает нам некоторый духовный образ России едва уловимыми беспомощными звуками”, хотя Достоевского по глубине он ставит только рядом с Данте* . Шпенглер не понимает смысла Петербургского периода русской истории и по- видимому не знает Пушкина, по крайней мере, о нем не упоминает. Петровский период русской истории и связанные с ним культурные начала он считает не русскими, чуждыми России, враждебными русскому духу. Россия, по его мнению, глубоко враждебна Западу, городам, Петербургу, праву, государству, промышленности. Он по-славянофильски судит о России. Но если это так, то мы должны спросить его: что же – Пушкин русский или не русский? “Парки Рококо и Барокко с их аллеями выводят к далям, – пишет он. – Люди фаустовской природы должны выйти к месту, где видна бесконечная даль”. Ну, а Петергофский Мон-Плезир, с простором на морскую даль – этот продукт Петровской культуры, – он не наш, не русский? Или, может быть, и Петр не наш со своей фаустовской далью? Значит, и Пушкин не наш? “На берегу пустынных волн Стоял он дум великих полн И в д а л ь глядел”… Во всем этом – в игнорировании христианства, в неясном отношении к иудейскому универсализму (в связи с туманностью “магической” культуры), а также в идеализации самобытных глубин России, понимаемой славянофильски, заключаются те слабые места его великолепной символики, которые не дают нам полного убеждения в разобщенности отдельных культур, в духовном разрыве между культурой и цивилизацией. Думая так о слабостях Шпенглера, я далек от того, чтобы видеть полное благополучие в духовной жизни европейского культурного человечества. Книга Шпенглера раскрывает большие глубины несомненного кризиса культуры. Вся современная литература полна этого духовного неблагополучия, полна тоски по цельному, органическому, и тяга к патриархальному прошлому, когда душа не была разодрана на клочья, не была механизирована – основной мотив культурно- философских размышлений современного европейца. Кризис европейской культуры надо искать в этой, именно, романтике, в пресыщении интеллектуализмом, рассудочностью, в обращении к средневековью, в потугах религиозного возрождения, в рафинированном интересе к мусульманскому востоку, к Индии, к России с ее загадочным “мистическим” духом. Эти темы варьируют в философской публицистике, в изящной литературе. Один из интересных публицистов современной Германии, промышленник и государственный деятель В а л ь т е р Р а т е н а у строит целые системы “о р г а н и ч е с к и о д у х о т в о р е н н о г о” государства (Organisch beseelter Staat), обращается своим “механизированным духом” к средневековым формам жизни, – к цехам, гильдиям, корпорациям, улавливая эти целостные начала одухотворенной общественности в идее корпоративных Советов. Точно также Рубинштейн, автор книги “Романтический социализм” ищет общественный идеал в средневековой жизни романо-германских стран, идеализируя Советы, как воспроизводящие этот корпоративный дух, форму… И Ратенау, и Рубинштейн, и Шпенглер рисуют себе романтический образ к р е с т ь я н и н а – этого единственного, по Шпенглеру, о р г а н и ч е с к о г о человека в современной культуре. Неудивительно, что крестьянская Россия всем романтическим течениям культурно-философской публицистики в Европе кажется царством ничем не извращенных первобытных душ. Искать эти души можно только в России, или на Востоке, где-нибудь в Китае. Вот П о л ь Э р н с т в своей книге “Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus” устами китайского мудреца, который занимается “культивированием принципов первобытных времен”, учит нас жить так, “чтобы стать цельным человеком, а не функцией или частицей”. “Мы научились доить коров при помощи электричества. Выбившийся пролетарий занимается гимнастикой. Англо-саксонская женщина в свободной Америке открыла, что деторождение – это жалкая дань отжившим предрассудкам и что женщина лишь после двадцать пятого развода достигает полного развития своей женственности”. Это все те же результаты механизации жизни… и китайский мудрец говорит обо всем этом, что “от машин человек научается свои дела делать машинально, получает м а ш и н н о е с е р д ц е”. Вот К а й з е р л и н г в своем дневнике (“Reisetagebuch eines Philosophen”) благоговейно взирает на Индию и Россию, “где можно еще найти истинное благолепие”. Ему показалось большое сходство в духовном облике паломников, которых он встречал на берегу Ганга и в Троице-Сергиевой лавре. “Да, Россия, – говорит он, – простая сермяжная Россия, является ныне, пожалуй, единственным близким к Богу христианским государством”. И выход из кризиса современной культуры он видит в религии. “Только вера доступна всем. Путем познания – к Богу приходят люди духовно одаренные, а веровать, уповать может в принципе каждый”. Но как быть с разумом, недоумевает Кайзерлинг? Разум действует разлагающе, разрушающе на веру; чем пополнить душу, которая утратила всякое соприкосновение со своей сокровенной глубиной и сделалась поверхностной? Вот какие вопросы ставит пресыщенный культурой европейский человек. Что тут можно сделать? И Кайзерлинг отвечает: “Хуже всего было бы пытаться подавить интеллект, рекомендовать возврат к вере примитивных людей, ибо то обстоятельство, что человек стал сильнее разумом, представляет собой плюс, а не минус. Необходимо углубить интеллект. Когда он научится понимать смысл веры, глубокое значение всего того, что он первоначально считал нелепостью, тогда он снова станет религиозным”. Во всем этом, – в том, как современный европейский человек говорит о себе, оглядывается на средневековье, смотрит на Россию, на Восток, в том, как нудится у него утраченная вера, в его скептицизме, релятивизме, в романтике… (формы проявления многообразны) – я усматриваю кризис европейской культуры, как кризис человеческого разума, к р и з и с р а ц и о н а л и з м а в широком смысле этого слова, и Шпенглер в этом смысле представляет собою утонченный, благороднейший образец этой болезни европейского духа. В духе Шпенглера мы можем сказать, что цивилизация – это разум, это “вакхический танец разума”,* это торжество свободного человека, торжество абсолютного “гуманитаризма”** . В этом смысле выход из кризиса европейской культуры должен, казалось бы, заключаться в преодолении безмерного, мертвящего культуру рационализма. Вся философия Шпенглера есть, наоборот, художественное утончение, симфонический апофеоз разума. Его философский рационализм – чисто языческого происхождения от Аристотеля и Платона и при этом поразительно проникнут иудаистической стихией. Его скептицизм и ахристианская настроенность чрезвычайно напоминают величайшего иудейского философа ХII в., воспитанного на Аристотеле и арабской культуре, – Маймонида, восторженного апологета человеческого разума. Различая в душе пять частей: питающую, чувствующую, воображающую, стремящуюся и разумную, Маймонид утверждал, что разумная сила погибает вместе с гибелью тела, но если человек достигает “высокого и действительного разумения”, достигает “совершенства”, т. е. “сидит вместе с царем в его чертоге”, то его разум переходит из потенции в действие и приобретает “неуничтожимое бытие”. Так, отвергая личное бессмертие души, Маймонид считал возможным при помощи разума как бы войти в лоно бессмертия. В этом для него был смысл и цель жизни. “Никакой другой цели нет. Какая же еще конечная цель? – спрашивает он. – Пустой вопрос. А какая цель у цели?”* Этот рационализм Шпенглера я утверждаю, вопреки тому, что он сам говорит о человеческом разуме. “Мы не верим больше в силу разума над жизнью, – пишет он** . – Мы чувствуем, что жизнь господствует над разумом. Познание людей важнее для нас, чем абстрактные и общие идеалы; из оптимистов мы сделались скептиками: не то, что должно быть, а что будет – важно для нас, а быть и остаться господином фактов важнее для нас, чем быть рабом идеалов. Логика внешней природы, сцепление причин и следствий – нам кажется поверхностным, и только логика органического, судьба, инстинкт, который чувствуешь, чье всемогущество видишь в смене вещей – показывает нам глубину становления”. Здесь Шпенглер признает примат жизни над разумом, утверждает как бы смирение человеческого разума, но это смирение из тех, которое паче гордости. Оно полно величайшего самоутверждения. И в этом отношении он также типичен для нашего культурного времени. В каком именно смысле? Блестящий английский философ-публицист, мало известный в России, Ч е с т е р т о н в одной из своих интереснейших книг “Ортодоксия”, в которой обозревает с удивительной парадоксальностью духовные пороки современной культуры, находит, что неправильно было бы огульно утверждать, будто современный мир пребывает во зле. Во многих отношениях он отчасти слишком хорош. Он полон “диких и потрепанных добродетелей”. Когда религиозные системы расшатываются (как это было с христианством во время реформации), то всплывают наружу не только пороки. Они действительно устремляются в мир, бродят и несут с собой вред. Но и добродетели приходят в движение, они несутся по миру с большей стремительностью, и их вред страшнее. Современный мир “полон христианских добродетелей, сошедших с ума”. Их сумасшествие объясняется тем, что они отделились одна от другой и бродят по миру в одиночку. И вот скромность и смирение (под которым надо разуметь сдержку беспредельных притязаний человеческой личности) – сместились с своего настоящего места. Вместо своей связи с притязаниями, с честолюбием – скромность как бы прикрепилась к органу убеждения, которому никогда раньше не служила. Назначение человека было сомневаться в самом себе и не сомневаться в истине, а вышло наоборот. В наши дни человек утверждается в самом себе и сомневается в истине. В этом смысле смирение наших дней есть самое извращенное смирение (“сошедшее с ума”). Прежнее смирение подымало человека и не давало ему останавливаться. Оно поселяло в человеке сомнение в собственных силах (м о г у л и я?) и тем самым побуждало напряженно работать. А смирение нашего времени рождает лишь сомнение в целях (с т о и т л и?) и грозит приостановкой деятельности. “На каждом шагу, – говорит Честертон, – встречаешь людей, которые, утверждая что-нибудь, прибавляют: “впрочем, может быть, я не прав”. Но уж одно из двух: или ваш взгляд должен быть правилен, или это не ваш взгляд. На наших глазах создается особая раса людей, слишком умственно скромных, чтобы верить в таблицу умножения. Нам грозит появление философов, которые сомневаются в законе притяжения, как в собственной фантазии. Скептики прежнего времени были слишком горды, чтобы быть убежденными, а современные скептики слишком смиренны, чтобы утверждать истину. Кроткие – да наследуют землю. Но современные скептики слишком кротки, чтобы требовать своего наследства”. Такое именно смирение у Шпенглера, таков его релятивизм и скептицизм. Смирение у него есть, он по-своему его декларирует, но оно направлено н а ц е л и, а не на органы постижения. В силе своих познавательных символов Шпенглер не сомневается, но он потерял веру и просмотрел универсальные истины, накопленные европейской культурой. Таким образом, Шпенглер помогает нам нащупать точный диагноз духовной болезни современной европейской культуры: б е з р е л и г и о з н ы й с к е п т и ч е с к и й с а м о у т в е р ж д е н н ы й р а ц и о н а л и з м. И в этом раскрытии его величайшая художественно-философская заслуга. совсем соответствовал его мысли о географически строго очерченных границах культур. В таком случае встает вопрос, почему же сам Шпенглер, будучи представителем западной культуры, считал себя вправе описывать другие исторические миры, более того, давать характеристики их таинственной и - согласно его же теории - непроницаемой для него души? По этому поводу иронизировал еще Томас Манн: " Только господин Шпенглер понимает их всех в месте и каждую в отдельности и так рассказывает, так разливается о каждой культуре, что это доставляет удовольствие". Убежденность Шпенглера в том, что только человек Запада в отличие от всех прочих культур предназначен для понимания истории, уходит своими корнями в традицию немецкого историцизма ХIХ в. Основополагающая идея историзма - понять человека из его историчности, т. е. изменчивости и постоянного развития, - характерна и для Шпенглера. Не без основания поэт-экспрессионист Г. Бенн (1886-1956), ставший после 1933 г. приверженцем нацистского " народного обновления ", считал, что принцип "все течет" - это чистое немецкое познание. Поэтому, " Гераклит - первый немец, Платон - второй, а все они - гегельянцы ". Еще раньше Ницше отмечал эту немецкую черту в книге "По ту сторону добра и зла": "И сам немец не есть, он становится, он "развивается". Поэтому "развитие" является истинно немецкой находкой и вкладом в огромное царство философских формул; оно представляет собой то доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится онемечить всю Европу". Но такое фатальное и неизбежное угасание культуры должно означать, по мысли Шпенглера, не стремление уйти от действительности в мир иллюзий, а героическое бесстрашие, с которым следует встретить и осознать закат нашего мира: "Кто не понимает, что уже ни кто не изменит этого исхода, что нужно либо желать этого, либо вообще ничего не желать, что нужно любить эту судьбу или отчаяться в жизни и будущем, кто не чувствует величия, присущей этой активности властных умов, этой энергии и дисциплине натур, твердых, как металл, этой борьбе, ведущейся ледянными и абстрактнейшими средствами, кто морочит голову провинциальным идеализмом и тоскует по стилю жизни прошедших времен, - тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, творить историю". При этом не надо думать, как это часто случается, будто из Шпенглера идет физическая гибель культурно- исторического мира. Он продолжает существовать, но его обитатели не живут полнокровной духовной жизнью, а влачат лишь чисто биологическое существование. Так неправ ли был Шпенглер, ставя под сомнение само понятие ничем не ограниченного бесконечного развития? Глава 7 ШПЕНГЛЕР И ПОЛИТИКА Работа над вторым томом "Заката Европы", который Шпенглер хотел завершить к весне 1919 г., была прервана в связи с бурными событиями в Германии, переключившим его внимание на другие проблемы. К тому же ожесточенная полемика вокруг его книги заставила Шпенглера еще раз продумать концепцию, и лишь в апреле 1922 г. рукопись была завершена. Центральное место во втором тома занимали темы политические. Буржуазию Шпенглер трактовал не как сословие, а как скопление людей уже покидающих сферу культуры. Шпенглер очень высоко ценил роль государства. Но с приходом цивилизации оно начинает терять авторитет, вместо идеальных стремлений на первое место выдвигаются материальные интересы и власть денег. В итоге на авансцену истории врываются харизматические личности как властелины новой охлократии: "Я называю цезаризмом образ правления, по своей внутренней сути абсолютно бесформенный". Одновременно с цезаризмом приходит борьба народов за мировое господство, "вступление в эпоху великих битв". Цезаризм и стремление к созданию мировых империй Шпенглер рассматривал как трагический и величественный закат. Старая Европа корчилась в предсмертных конвульсиях, распятая между коммунистическим Вельзевулом и фашистским Мефистофелем. Действительно, казалось, что грядет эпоха цезарей, век великих диктаторов: Сталин в России, Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Франко в Испании, Салазар в Португалии, Хорти в Венгрии, Дольфус в Австрии, Пилсудский в Польше, Ульманис в Латвии, Сметона в Литве. Поистине, Шпенглер оказался великим провидцем, но только на короткое время. Его "век цезарей" пронесся по истории огненно кровавым метеоритом и исчез. Вот только исчез ли он окончательно? Глава 8 ШПЕНГЛЕР И НОВАЯ ГЕРМАНИЯ Выход "Заката Европы" сделал Шпенглера знаменитостью во всей Германии. От восторженных читателей он получал множество писем. Шпенглер был принят в высший совет Мюнхена. Ими заинтересовались в так называемых национально мыслящих кругах политиков и предпринимателей. Довольно тесные отношения сложились у Шпенглера с промышленниками Г. Стиннесом и А.Ферглером, магнатом печати и лидером националистов А. Гугунбергом, с бывшим вице- канцлером К. Гельфериком, с руководителем правой военизированной организации Г. Эшерихом, с рейнским фабрикантом П. Ройшом. В эти же годы Шпенглер стал частым гостем в мюнхенской квартире Макса Вебера, где между гостем и хозяином велись длительные многочасовые дискуссии. Уже тогда становиться заметным настороженное отношение Шпенглера к нацистскому движению. Когда после провала" пивного путча " в Мюнхене 26 февраля 1924 г. начался фарсовый судебный процесс против Гитлера и его сподвижников, Шпенглер в тот же день выступил перед студентами Вюрцбурга с докладом" Политический долг немецкой молодежи", в котором предостерегал молодежь от увлечения национал социализмом. Шпенглер критиковал не только национал- социалистические и националистические идей. С неменьшей резкостью он отзывался и о Веймарской республики, в которой правили "некомпетентность, трусость и подлость" и в которой процветали" коррупция и разложение административного аппарата, грозящие превратить Германию в европейскую Индию". Странно, но Шпенглер не сумел или не захотел увидеть, что Г. Штреземан, которого он считал предателем национальных интересов Германии, на самом деле был одним из наиболее ярких и последовательных их выразителей и защитников. Вторая половина 20-х годов была временем затишья в жизни Шпенглера. Его поглотила работа над большим чисто философско- антропологическим сочинением, которое так и осталось незаконченным и в виде нескольких тысяч было опубликовано только в 1965 г. А. Коктанеком, исследователем архива Шпенглера, под заголовком "Первовопросы. Фрагменты из архива". В настроении Шпенглера произошел определенный перелом: усилились его разочарования и скептицизм. Интуитивно он угадывал, что на Германию надвигается тень чего-то нового и тревожного. Не случайно свою, вышедшую летом 1931 г. книгу "Человек и техника", пропитанную настроением безысходности, он заканчивал пассажем о жертвенности: "Время удержать нельзя; нет никакого мудрого поворота, никакого умного отказа. Лишь мечтатели верят в выход. Оптимизм - это малодушие. Долгом стало терпеливое ожидание на утраченных позициях, без надежды, без спасения. Ожидание, как у того римского солдата, чьи кости нашли перед воротами Помпей и который погиб, потому что при извержении извержении Везувия его забыли отозвать. Такой честный конец - единственное, чего нельзя отнять у человека". Шпенглер не был принципиальным противником национал-социалиизма, то есть считать его антифашистом было бы явным преувеличением. На выборах в Рейхстаг 31 июля 1932 г. и 5 марта 1933 г. он голосовал за НСДАП. И на президентских выборах в марте 1932 г. Шпенглер отдал свой голос за кандидатуру Гитлера, объяснив, правда, это так своей сестре Хильдегард, опекавшей этого одинокого, нелюдимого и, в сущности, глубоко несчастного человека: "Гитлер - болван, но движение нужно поддержать". И первые законы "карновального министерства", как он называл правительство Гитлера, направленные на свертывание демократических свобод и ликвидацию конституционно-парламентарной системы, не вызвали его протеста. Но столько же грубой ошибкой было бы считать Шпенглера сторонником национал социализма. На самом деле было все сложнее. Если многих видных интеллектуалов охватила в те дни национал социалистическая эйфория и они наперебой приветствовали возрождение новой Германии, то Шпенглер ни разу не выступил в поддержку нового режима публично. С редким для лета 1933 г. мужеством высказал Шпенглер свое порицание новым правителям: "К власти пришли люди, упивающиеся властью и стремящиеся увековечить то состояние, которое годится на мгновение. Правильные идеи доводятся фанатиками до уничтожения. То, что в начале обещало величие, заканчивается трагедией и фарсом". В будущем по Шпенглеру, ведущее положение в мире займут страны, отвечающие определенным требованиям, к которым он относит мощных сухопутных сил и флота, хорошо функционирующих банков и промышленности, и, конечно же, страны, имеющие сильные стратегические позиции в мире. Таким требованиям, полагал Шпенглер, отвечали лишь немногие государства, а в перспективе мировая мощь, по его мнению, постепенно будет перемещаться из Европы в Азию и Америку. К странам, которые постепенно могли стать ведущими в мире, Шпенглер относил США и Японию, отмечая их неизбежное столкновение за господство в Тихом океана. Хорошие перспективы, он считал, имеет и Россия, но только после освобождения от большевистского режима: "Большевистское правительство не имеет ни чего общего с государством в нашем смысле, каким была петровская Россия". Душа России, еще более далекая и непроницаемая для западного человека, чем душа Греции и Египта. Россия есть апокалипсический бунт против античности. В Достоевском открывается тайна России. Для нас западная культура проницаема и постижима. Россия посредник между Востоком и Западом. Освальд Шпенглер сказал, что западная цивилизация превратилась в некий механизм и у нее нет души. За 50 лет до него Н. Данилевский говорил, что душу мы можем добыть из русских национальных корней. В своей книге Шпенглер пишет, что время создания пороха примерно совпало с появлением книгопечатания. Шпенглер назвал эти открытия "двумя великими фаустовскими средствами ведения войны на расстоянии". Все рассуждения Шпенглера сводятся к тому, что если бы хоть отчасти совместить культуры Запада и Востока, возможно, не наблюдался бы этот упадок западной культуры. Что касается Европы, то Шпенглер отмечал ослабления позиций Великобритании, устарелость ее промышленности и торговли и постепенное истощение "творческой энергии". Романским же странам он отводил в будущем" только провинциальное значение". Глава 9 В "ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ РЕЙХЕ" В 1933 г. расхождения между Шпенглером и новым режимом неуклонно нарастали. Гитлер публично заявил: "Я не последователь Освальда Шпенглера! Я не верю в закат Запада. Нет, я усматриваю дарованную мне Провидением миссию в том, чтобы восприпятствовать этому". Шпенглер в долгу не остался, ядовито заметил, что "Закат Европы" - книга, прочитанная фюрером только в объеме титульного листа". Может возникнуть вопрос: почему нацисты не расправились с открыто фрондировавшим Шпенглером? Точно ответить на него не возможно, но, скорей всего, они просто не решались на убийство всемирно известного философа, уже давно не имевшего к политике ни какого отношения. Шпенглер сформулировал горький итог консервативно-национального движения так: "Мы хотели покончить со всеми партиями. Осталась же самая отвратительная". Конечно, проблема Шпенглер и национал-социализм - действительно существует. Между ними можно найти немало точек соприкосновения: борьба против Версальской системы и Веймарской республики, против либерально- демократической системы и марксизма, общее стремление к гегемонии Германии в мире. Но достаточно ли этого, чтобы утверждать, что Шпенглер был первопроходцем нацизма? Думаю, что нет. Здесь следует иметь в виду следующее обстоятельство: Шпенглер никогда не разделял расовой теории и антисемизма, которые составляли ядро национал- социалистической идеологии. Уберите их, и мы получим не нацизм, а нечто совсем иное. Несовместимыми были и мессианское устремление Гитлера и пессимистический фатализм Шпенглера. Оставим на совести выдающегося аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса то, что герой его рассказа "Немецкий реквием", комендант концлагеря, не расстается с книгой "Закат Европы". Хотя можно вспомнить, что большим почитателем Шпенглера были антигитлеровские заговорщики 1944 г. - Адам фон Тротт цу Зольц, Хеннинг фон Тресков, Ульрих фон Хассель. Сейчас имя Шпенглера и его идеи принадлежат истории. Очевидно, что из "Заката Европы" не выросла какая-либо заметная философская или иная традиция, за исключением философии техники, у истоков которой стоял Шпенглер. Побудительные импульсы получает от него и современная пессимистическая критика цивилизации и предупреждения о ее грядущем кризисе. Но главное все же в другом. Необычайно артистичная, свободная и раскованная книга Шпенглера уже давно сама стала неотъемлемой частью европейской духовной культуры. И пока будет существовать Европа, будет существовать и это великолепное произведение. Заключение. Осенью 1911 г. в Мюнхен из Гамбурга перебрался скромный гимназический учитель Освальд Шпенглер. О том, что он напишет Эпохальную книгу он знал уже в 10 лет. В Мюнхене возник замысел его книги. Он писал о себе: "Я трус, робкий беспомощный трус. Если по сей день что-либо защищает меня, так это привычка уверенно держаться"; он все больше замыкался в себе.Исходным пунктом философии Шпенглера выступала противоположность истории и природы: " Математика и принцип причинности ведут к естественному упорядочиванию явлений, хронология и идея судьбы - к историческому" . Шпенглер определил проблему тем, что философы, пытаясь дать характеристику чего-либо, не учитывают, нет общей связи с их понятиями и культурой других народов, времен.В основе “Заката Европы” не лежит аппарата понятий, в основе его лежит организм слов. Понятие – мертвый кристалл мысли, словно ее живой цветок. Понятие всегда одномысленно, самотождественно и раз навсегда определено в своей логической емкости. Слово всегда многомысленно, неуловимо, всегда заново нагружено новым содержанием.“Закат Европы” сработан Шпенглером не из понятий, но из слов, которые должны быть читателем прочувствованы, пережиты, увидены. Слов этих в “Закате Европы” в сущности очень немного.Каждое бодрствующее сознание различает в себе “свое” и “чужое”. Все философские термины указывают по Шпенглеру на эту основную противоположность. Кантовское “явление”, Фихтевское “я”, “воля” Шопенгауэра – вот те термины, нащупывающие в сознании некое “свое”. “Вещь же в себе”, “не я”, “мир как представление”, указывают, наоборот, на некое “чужое” нашего сознания.Шпенглер не любит терминов и потому он “покрывает различие “своего” и “чужого” многомысленной противоположностью многомысленных слов, называя свое – “д у ш о ю”, а чужое – “м и р о м”.Шпенглера трудно передать, его надо самому почувствовать, освоиться с ним, сжиться. Раз начавши изучать его, можно либо бросить на втором десятке страниц, либо быть увлеченным до конца. Деловито прочесть его, как читают серьезную книгу, значит пройти мимо него. Не поддаться на время тончайшему соблазну его философской пышности – значит ничего не увидеть из мира его идей.Работа над вторым томом "Заката Европы", который Шпенглер хотел завершить к весне 1919 г., была прервана в связи с бурными событиями в Германии, переключившим его внимание на другие проблемы. К тому же ожесточенная полемика вокруг его книги заставила Шпенглера еще раз продумать концепцию, и лишь в апреле 1922 г. рукопись была завершена.Выход "Заката Европы" сделал Шпенглера знаменитостью во всей Германии. От восторженных читателей он получал множество писем. Шпенглер был принят в высший совет Мюнхена. Ими заинтересовались в так называемых национально мыслящих кругах политиков и предпринимателей.В 1933 г. расхождения между Шпенглером и новым режимом неуклонно нарастали. Гитлер публично заявил: "Я не последователь Освальда Шпенглера! Я не верю в закат Запада. Нет, я усматриваю дарованную мне Провидением миссию в том, чтобы восприпятствовать этому". Шпенглер в долгу не остался, ядовито заметил, что "Закат Европы" - книга, прочитанная фюрером только в объеме титульного листа". Шпенглер бесконечно у ч е н; он сам говорит, что сделанное им открытие запоздало потому, что со смерти Лейбница ни один философ не владел всеми методами точного знания. Математика и физика, история религий и политическая история, все искусства, в особенности архитектура и музыка, судьбы народов и культур – все это странно сплетаясь друг с другом, составляет единый предмет Шпенглеровских размышлений. 1. О. Шпенглер "Закат Европы" М., Мысль, 1993г. 2. О. Шпенглер "Философия будущего" СПб., 1922г. 3. Сборник статей "О. Шпенглер и "Закат Европы" Н.А.Бердяев , Я.М.Букшнап , Ф.А.Степун , С.Л.Франк , М., Берег 1922г. 4. Артур Хюпшер "Мыслители нашего времени" СПб. 5. В. Сендеров "Заклясть судьбу" журнал "Новый Мир" №11 СПБ., 1999г. 6. Н. Бердяев "Предсмертные мысли Фауста" Лит.газ., 1989г. 7. Л. Барсова "Закат Европы" Час пик 1997г. 8. О.Шпенглер "Пессимизм ли это?" Ежегодник филосовского общества М.,Наука.1991г. 9. Б.Старостин "Историософия Шпенглера в наше время" Европейский альманах М., Наука 1991г. 10. Л.Пономарёва "О.Шпенглер и русская историко- философская мысль конца XIX столетия" Европейский альманах. М., Наука 1991г. 11. С.Аверинцев "Морфология культуры О.Шпенглера" Ежегодник философского общества М., Наука 1991г. 12. Г.Тульчинский "Шпенглер и мы или Где же русско- сибирская культура?" Час пик №52 1992г. 13. К.А.Свасьян "Социально-политическая филосифия О.Шпенглера" Социологические исследования №6 1987г. 14. Ю.Давыдов "Шпенглер и война" Вопр.лит. №8 1983г.СТВ 14 .Ф.А.Степун – Освальд Шпенглер и Закат Европы 15 .С.Л.Франк – Кризис Западной культуры 16 .Н.А.Бердяев – Предсмертные мысли Фауста 17 .Я.М.Букшпан – Непреодоленный рационализм |
|
© 2000 |
|