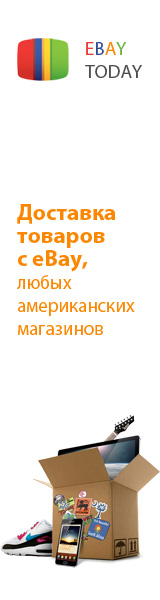|
РУБРИКИ |
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европы |
РЕКЛАМА |
||
|
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европыпредставляет собою еще более глубокую степень культурного dйcadence’а Европы. В Тристане умирает последнее фаустовское искусство – музыка. Смерть Европейской музыки – верный симптом начала конца: гибели европейской культуры, сопровождаемой расцветом цивилизации. Сущность всякой цивилизации в атеизме: в умирании мифа, в распадении форм символического искусства, в замене вопросов метафизики вопросами этическими и практическими, в механизации жизни. Все эти мотивы явно присутствуют в господствующих течениях современной мысли: – в дарвинизме и социализме. Несмотря на провозглашенный Кантом примат практического разума, мироощущение Канта насквозь космично и метафизично. Несмотря на глубочайшее отрицание воли Шопенгауэром, его система все-таки насквозь этична; так как, хотя и отрицаемая воля (принцип этики) все же лежит в основе его мироощущения. Задрапированная в ткани кантианства и восточной мудрости, система Шопенгауэра все же является предвосхищением дарвинизма. Борьба с природой и самоутверждение индивида, интеллектуализм, как фактор этой борьбы, половая любовь, как биологический интерес – все эти элементы дарвинизма явно присутствуют у Шопенгауэра уже в его “Воле в Природе”. В системе Шопенгауэра человек как бы сосредоточивается на самом себе. Дальше Шопенгауэра на путях цивилизации продвигается его ученик Ницше. Отрицаемая Шопенгауэром воля к жизни является у Ницше объектом страстного утверждения. Еще живой у Шопенгауэра интерес к вопросам метафизики становится для Ницше предметом ненависти. Разрыв Ницше с Вагнером – это последнее великое событие в духовной жизни Германии – означает со стороны Ницше предательство Шопенгауэра Дарвину. В “Шопенгауэре воспитателе” Ницше еще понимает жизнь, как органическое вызревание; впоследствии он понимает ее как механическое взращивание, как борьбу за существование. Эта подмена смысла слова жизнь превращает Ницше в дарвиниста, которого договаривает Бернард Шоу, превращающий с мужеством безвкусия, не хватавшего Ницше, проблему развития человечества в разветвление проблемы животноводства. Так перерождается в философии ХIХ века идея великого порыва фаустовской души к бесконечному в программу бескрылого продвижения на бесконечных путях эволюции. В этом перерождении религиозный вертикал фаустовской души, вокруг которого строилась и вращалась европейская культура, превращается в горизонтально расположенную атеистическую ось европейской цивилизации. Мертвою маскою фаустовского пафоса дали смотрит на нас господствующая ныне вера в бесконечную эволюцию и социалистический прогресс. Вера эта – не вера: она только механический остаток умершей фаустовской веры в бесконечное пространство, в бесконечность времени и судьбы. Слепы мечты о родстве христианства и социализма. Всякий дух гуманности и сострадания чужд социализму. В основе социализма лежит дурная бесконечность воли к власти во имя власти. В основе его лежит изуродованная фаустовская “am Anfang war die Tat”; не творчество, но труп творчества – мертвая работа. В социалистическом мире не будет творчества и не будет свободы. Все будут повелевать всеми и все будут механически работать на всех. Силою природного закона будет всех давить и угнетать воля большинства. Так в странном оцепенении, в своеобразном китайском окостенении встретит высоко цивилизованная Европа уже приближающуюся к ней смерть. ___________________ Конкретизировав предложенными копиями Шпенглеровских портретов аполлинистической и фаустовской души, его образ артиста-мыслителя, мы должны еще дополнить этот образ более точным представлением о форме, размерах и цельности всей выполненной Шпенглером работы. Шпенглер мистик, романтик и скептик, но Шпенглер не импрессионист. “Закат Европы” – изумительное по цельности, емкости и конструктивности творение. В глубоком соответствии с убеждением автора, что подлинно фаустовское искусство, контрапунктическая музыка, его книга, эта последняя возможная философия умирающей Европы, поставлена им под знак формы контрапункта. В ней три основных темы: тема истории, как физиономики, тема отдельных культур, – индусской, египетской, арабской, аполлинической, фаустовской и отчасти китайской, – и тема скорбной аналогии их круговращения от весны к зиме, от культуры к цивилизации, от жизни к смерти. Не составляя мертвого содержания искусственных глав, темы эти, как нити живой музыкальной ткани, все время звучат сквозь все главы, по очереди уступая друг другу первенство голосоведения, по очереди пропадая в немой глубине книги. Тема трагической судьбы каждой культуры, тема предопределенного в ней круга: весна, лето, осень, зима [–] проводится Шпенглером сквозь души всех культур и зорко выслеживается им во всех разветвлениях человеческого творчества и природного бытия – в религии, философии, искусстве, науке, технике, быте и пейзаже. Из всех получающихся, таким образом, аналогий, параллелей, связей, перекличек и противоположностей вырастает, в конце концов, бесконечно сложный и богатый, строгий и стройный мир “Заката Европы”, этого пантеона истории, украшенного одинокими статьями и пышными фресками скорбной Шпенглеровской физиономики. Закончив передачу содержания и образа “Заката Европы”, будет, думается, не лишним поставить вопрос об объективности этой передачи, так как только при условии ее наличности осмыслены все дальнейшие рассуждения по поводу книги. Я рассматриваю мое изложение “Заката Европы” как эскиз к портрету Шпенглера. Проблема портрета – проблема двойного сходства. Всякий портрет должен быть похож не только на свой оригинал, но и на подписавшегося под ним автора. Проблема портрета есть потому, с психологической точки зрения, проблема встречи в одном эстетическом образе двух человеческих душ. Эстетическое благополучие такой встречи предполагает между встречающимися душами наличие предустановленной гармонии, ощущаемой всяким портретистом, как любовь к портретируемому им лицу. Присутствие в портрете живых следов такой любви есть, в виду объективной природы любви, единственная возможная гарантия объективности портрета. Всякое требование иных гарантий означает обнаружение методологического дилетантизма. Для тех же, кто считает любовь началом искажающим и иллюзорным, проблема объективности вообще не разрешима. Думаю, что в моей передачи книги Шпенглера должны чувствоваться следы любви к нему. Думаю потому, что передача эта должна считаться объективной, хотя и знаю, что она явно окрашена личным отношением к Шпенглеру и потому, быть может, исполнена многих неточностей. Но разве точные фотографии объективнее хотя бы и стилизованных портретов? В дальнейшем меня интересуют три вопроса. Оригинален ли Шпенглер, прав ли он и в чем причина успеха его книги, т. е. каково его симптоматическое значение? Оригинален ли Шпенглер? Если оригинальность мыслителя (я же сейчас говорю, прежде всего, о мыслителе Шпенглере) измерять несхожестью его о т д е л ь н ы х, и прежде всего, о с н о в н ы х мыслей с мыслями, высказанными еще до него, то за философской концепцией “Заката Европы” нельзя будет признать высокой оригинальности. Слишком ясен ее философский генезис и слишком явно перекликается она с целым рядом современных философских явлений. Главное явление, очевидно, очень глубоко пережитое Шпенглером – это влияние Гете. Сколько ни билась европейская мысль над определением Гетевского миросозерцания, миросозерцание Гете все еще не определено. Неопределено потому, что оно не определимо, неопределимо потому, что в отношении его верны решительно все определения. Всякое миросозерцание представляет собою результат созерцания мира с определенного наблюдательного пункта, а потому неизбежно и искажение картины мира, его преломляющей перспективностью. Гениальность Гете в отсутствии такого постоянного наблюдательного пункта. Каждое явление он созерцает как бы приблизившись к нему, как бы проникнув в его сердце. Отсюда та единственная глубина Гетевского созерцания обликов мира, что органически не переносит стесняющих границ никакого определенного миросозерцания. То, что дано Гете, того хочет Шпенглер. Он в сущности не хочет философии и миросозерцания; он хочет голого созерцания мира, никаким мнением не искаженного образа. Его требование, чтобы историк физиономист изъял бы из себя современного человека и созерцал бы историю, как горную цепь на горизонте взором беспристрастного божества – требование Гетевской объективности, объективности Гетевских глаз. Чистым гетеанством дышит и главная идея Шпенглера, идея морфологизирующей физиономики. В сущности она представляет собою ничто иное, как результат переноса Гетевского метода созерцания живой природы на историческую жизнь. Такое рождение физиономики из глубин Гетевского отношения к природе своеобразно сказывается внутри Шпенглеровской концепции роковою для Шпенглера невозможностью увести творимую им историю от образа природы. Гете, ан[ал]изируя историческое познание Шпенглера, невольно антикизирует его, т. е. согласно его же собственному пониманию античности возвращает свою историю вспять к природе. Это становится вполне ясным при сопоставлении Шпенглеровской концепции истории, концепции рокового кружения каждой исторической души над бездною ждущей ее смерти, с драматическим построением христианской философии истории. Итак, ясно, что Гетевский интуитивизм был главною моделью Шпенглеровской физиономики. Разница только в том, что Шпенглер, как безусловный романтик явно перенес свой интерес с природы на историю. Но история не переносит того равнодушно справедливого к себе отношения, которое не оскорбляет природы; потому она и отомстила Шпенглеру тем, что обязала его к глубоко минорной транскрипции светоносного гетеанства. Второе решающее влияние – безусловно испытанное Шпенглером – влияние Ницше. Если у Гете Шпенглер заимствовал метод, то Ницше дал ему его главную тему, тему европейского “dйcadence'а”, тему цивилизации и гибели. Но если отношение Шпенглера к Гете есть положительная зависимость, то с Ницше Шпенглер глубоко связан формулой противоположности и, поскольку это возможно для Шпенглера, формулой противоборства. Оба чувствуют, что корабль гибнет, но Ницше жаждет спасения, а Шпенглер ждет гибели, Ницше одержим безумною мечтою взрастить у себя за спиною крылья, улететь самому и унести на себе душу гибнущего человечества. В этой вере в чудо – христианский пафос антихриста Ницше. Его трагедия только в том, что он не видит, что для людей христианского пафоса это чудо уже свершено Христом. Иной пафос у Шпенглера. Пафос капитана на вышке гибнущего корабля: ни на что не надеяться, до конца делать свое дело и мужественно пойти ко дну. У Ницше пафос подвига, у Шпенглера пафос позы, в том высоком смысле, в котором он применяет этот термин к героям античной трагедии. Но Шпенглер связан не только с такими вершинами как Гете и Ницше. В постановке проблемы культуры и цивилизации он созвучен с целым рядом так глубоко презираемых им профессоров философии, с Зиммелем, Эйкеном, Коном, Эвальдом. Все эти ученые и целый ряд других много писали в последнее время о вопросу культуры и цивилизации. 0 русской философии не приходится и говорить, она вся, от Ивана Киреевского до Владимира Соловьева и Льва Толстого, посвящена вопросу обезбоженья Европейской культуры, т. е. вопросу Европейской цивилизации. Можно без преувеличения сказать, что вряд ли мыслим современный философ, равнодушный к вопросам философии истории, которому вопрос культуры и цивилизации не казался бы ее главным вопросом. Оскудение религиозного чувства, распад монументальных форм искусства во всяческого рода импрессионизме и эстетизме, утрата органического чувства бытия, бесконечный проблематизм жизни, подмененной россыпью мертвых переживаний, обезличенье человека механизмом, превращение его души в накипь его профессий, смерть нации в космополитизме, – вот задолго до Шпенглера указанные черты перерождения культуры в цивилизации. Не нова и основная метафизическая мысль Шпенглера. Его убеждение, что души культур свершают каждая свой одинокий круг, кружат каждая над своею собственною смертью, не связанные друг с другом сквозным историческим процессом, не объединенные в единое человечество. Эту мысль еще в начале ХVIII столетия высказывал и прочно обосновывал Вико, ее варьировал немецкий историк Рюккерт, передавший ее Данилевскому, который в книге “Россия и Европа” теоретически очень близко подходит к Шпенглеру. Трактовка противоположности природы и истории не как противоположности двух миров, а как противоположности двух точек зрения на единый мир, также не может претендовать на безусловную оригинальность; она очевидно представляет собою ничто иное, как сильно упрощенную и как бы эмоционализированную главную мысль методологии Виндельбанда и Риккерта. Не без участия Бергсона выработалось далее в Шпенглере его понимание времени, как направленности переживания и пространства, как мертвого времени. Можно было бы очень долго продолжать такое выслеживание созвучия Шпенглера с его предшественниками и современниками, и все же, если бы даже удалось доказать, что в “Закате Европы” нет ни одной безусловно новой мысли, оригинальность Шпенглера, как философа не была бы поколеблена. Философия Шпенглера не метафизическое построение и на научно-логическое исследование; она изумительно точно явленное, новое в европейской душе переживание; она оригинальна не как мысль, но как звук. Если такую философию не угодно называть философией, то о словах можно, конечно, не спорить. Оригинальность Шпенглера, как философа культуры заключается в том, что он не принадлежит к тем мыслителям позитивистам, которые склонны видеть в цивилизации наиболее совершенное лицо культуры, но не принадлежит и к тем религиозно настроенным философам, к которым принадлежат почти все русские мыслители, что видят в цивилизации маску умершей культуры. Для Шпенглера цивилизация лицо, но не лицо жизни; а ж и в о е л и ц о с м е р т и. Но смерть не имеет своего лица. В лице близкого умершего мы не можем оторваться не от лица смерти, а от лица умершей в нем жизни. В лице современной цивилизации Шпенглер бесконечно любит какой-то страстный предсмертный порыв европейской культуры, этот его душе, быть может, самый дорогой ее жест. Как всякий романтик, Шпенглер любит смерть, как эстетическое a priori жизни. В этом смысле он любит и цивилизацию, как скорбное a priori культуры. Так разрешается в конце концов и пользу Шпенглера вопрос о его оригинальности. Но прав ли Шпенглер? Верны ли его утверждения, правильны ли его построения? Не окрылена ли его книга произвольным духом дилетантизма, есть ли в ней истина? Разрешение этого вопроса предопределено для меня разрешением предыдущего. Как безусловная неоригинальность многих мыслей Шпенглера не доказывает неоригинальности его философии, также безусловное присутствие в “Закате Европы” многих логических неправомерностей и фактических неверностей, не может поколебать его существенной истинности. Есть книги, в которых правильны все положения и верны все факты, но которые все-таки не имеют никакого отношения к истине, потому что не имеют никакого отношения к духовному бытию, которых потому в сущности нет. Есть другие, перегруженные бытием, но освещенные с формально логической и позитивно научной точки зрения произволом и самовластием. К таким, не худшим книгам принадлежит и “Закат Европы”. В Греции просмотрен Дионис. В Ренессансе – реформация, в искусстве ХIХ века французский роман. Религиозное мироощущение фаустовской души односторонне связано с протестантизмом, а оторванный от Манчестерства и Марксизма социализм – с государственным идеалом Фридриха Великого и т. д. и т. д. Нет сомнений, что если исследование “Заката Европы” поручить комиссии ученых специалистов, то она представит длинный список фактических неверностей. Но нет сомнений, что этой комиссии будет правильно ответить за Шпенглера знаменитою фразою Гегеля “тем хуже для фактов”. Перед тем как обвинять Шпенглера в ненаучности и дилетантизме, надлежит продумать следующее: для Шпенглера нет фактов вне связи с его новым внутренним опытом, по-новому располагающим события и силы мировой истории. Это новое Шпенглеровское расположение не субъективно, но только п е р с о н а л и с т и ч н о. Это значит, что объективность этого расположения, не гарантированная объективностью научно- логических категорий, все-таки гарантирована духовною подлинностью внутреннего опыта Шпенглера. Это значит, что формально логические и позитивно научные неверности Шпенглеровской концепции должны быть поняты и оправданы в ней как гностически точные символы. Что бы фактически не утверждал Шпенглер, он со своей точки зрения, до конца отрицающей историю, как науку и утверждающей, что каждый человек живет в своем собственном мире, останется всегда прав. Ведь для него факты только биографы его внутреннего опыта. Обвинение Шпенглера в субъективности осмыслено потому только, как заподозревание напряженности, подлинности, предметности и духовности его внутреннего опыта. Во всяком другом смысле оно методологическое недоразумение и больше ничего. Итак, вопрос об истинности и объективности “Заката Европы” разрешается в конце концов в пользу Шпенглера. Нет сомнения, что если бы книга Шпенглера появилась до потрясений мировой войны и революции, она не имела бы в Европе и, прежде всего, в самой Германии и половины того шумного успеха, который очевидно выпал ей на долю. Ученые отнеслись бы к ней скептически, как к работе талантливого дилетанта, широкие же круги интеллигенции никак не приняли бы пророчества о смерти. Пустым чудачеством прозвучала бы она может быть в самодовольной атмосфере европейской жизни, в атмосфере ее слишком бумажной культуры и слишком стальной цивилизации. Успех книги Шпенглера означает потому, думается, благостное пробуждение лучшие людей Европы к каким-то новым тревожным чувствам, к чувству хрупкости человеческого бытия и “распавшейся цепи времени”, к чувству недоверия к разуму жизни, к логике культуры, к обещаниям заносчивой цивилизации, к чувству вулканической природы всякой исторической почвы. Ученая книга Шпенглера явный вызов науке. Этот вызов не мог бы иметь успеха в довоенной Германии, довоенной Европе. Успех этого вызова психологически предполагает некую утрату веры в науку, как в верховную силу культуры, очевидно означает происходящий в многих европейских душах кризис религии науки. Возможность такого кризиса вполне объяснима. Наука, эта непогрешимая созидательница европейской жизни, оказалась в годы войны страшною разрушительницей. Она глубоко ошиблась во всех своих предсказаниях. Все ее экономические и политические расчеты были неожиданно опрокинуты жизнью. Под Верденом она, быть может, отстояла себя как сильнейший мотор современной жизни, но и решительно скомпрометировала себя, как ее сознательный шофер. И вот на ее место ученым и практиком Шпенглером выдвигается дух искусства, дух гадания и пророчества, быть может, в качестве предзнаменования какого-то нового углубления религиозной мистической жизни Европы. Как знать? Когда душу начинают преследовать мысли о смерти, не значит ли это всегда, что в ней пробуждается, в ней обновляется религиозная жизнь? Глава 4 Кризис Западной культуры. __________ Книга Шпенглера “Закат Западной Европы” есть бесспорно самая блестящая и замечательная – в буквальном смысле слова – книга европейской литературы со времени Ницше, хотя далеко не самая глубокая и плодотворная. Первое впечатление от нее – просто ошеломляющее; почти неисчерпаемое богатство мыслей, глубина постановки вопросов в связи с широтой захвата – трудно привести пример книги, столь же универсальной, – яркость образов, блеск ума, художественная энергия литературного выражения, – все это сначала, при чтении первых же страниц книги Шпенглера, как-то гипнотизирует, чарует сознание и принудительно приковывает внимание. Впечатление приблизительно такое, как когда среди мрака северной зимней ночи вдруг засверкает, освещенная разноцветными огнями, живая, клокочущая громада водопада Иматры, или как если бы на стол нынешней убогой столовой-кухни вдруг была вывалена огромная груда самоцветных драгоценных камней. Постепенно, однако, при дальнейшем чтении и более упорном размышлении чувства и мысли читателя приходят снова в порядок, сила чарования слабеет, – чему содействуют уже утомительные повторения одних и тех же, хотя и блестящих, переливов мысли, однообразие этой роскошной и утонченной духовной колоратуры; возникает потребность в чем-то более простом и скромном, но и более прочном и цельном в этой игре ума. Под конец, когда попытаешься спокойно и трезво подвести итоги, начинаешь сознавать незавершенность мыслей Шпенглера, и даже более – их бесплодие. Сохраняешь благодарное чувство к изумительному таланту автора, давшему нам прикоснуться к тем глубинам бытия, из которых бьет живой источник духовного творчества, но испытываешь также, что сам автор лишь скользит вдоль этих глубин, а не прочно в них укоренен. В конце концов, книга Шпенглера – создание “упадочника”, эпигона, наследника безмерно богатой культуры, которую он тонко чувствует, но которая не животворит его самого и продолжать которую он бессилен. Более, чем отвлеченное содержание его мыслей, непосредственное впечатление от собственной духовной личности автора убеждает нас в “закате” или, по крайней мере, в кризисе западной культуры. * * * Основное философское миросозерцание Шпенглера может быть определено, как исторический релятивизм. Все, чем живет, во что верует, что видит и сознает человек – будь то религия или искусство, наука или государственная жизнь, основные логические понятия и числа, законы природы и Бог, образы искусства и нравственные идеалы, пространство и время – все это, без исключения, есть лишь греза, “хорошо упорядоченный сон” коллективной “души” определенной культурной эпохи. С несравненной художественной яркостью изображает он, как “душа” культуры в определенный момент, пробуждаясь от хаоса и мрака “Urseelentum'a” – из темных бессознательных глубин “перводушевности” – и озираясь на бытие, которое дано ей только, как бесформенный и бессмысленный материал, начинает – гонимая исконным с т р а х о м перед бытием и своей творческой мечтой – воплощать свое существо в мировых образах и грезах, и тем творит не только свою собственную духовную жизнь в искусстве, религии, науке, общественности, но в ней и через нее с в о й мир – с в о е пространство и с в о е время, с в о и числа и с в о и логические отношения, с в о е г о Бога и с в о и законы природы. Поэтому каждая “великая культура” имеет свой особый мир, своеобразный и неповторимый. Не существует ничего “общечеловеческого” – не только искусство, религия, нравственность у каждой культуры свои особые, но не существует также ни чисел “вообще”, ни истины “вообще”, ни пространства и времени – все это коренным образом различно в каждой культурной эпохе, все это столь же разнородно по с т и л ю, по принципу оформляющего единства, сколь разнородны, например, статуя Фидия и картина Пикассо. Можно установить только формальное сходство в законе развития каждой культуры: а именно, к а ж д а я культура имеет свое первое пробуждение, свою утреннюю зарю в лице своей наивной и смелой “готики” – не только в искусстве, но и в науке, религии, нравственности, общественности, – свою зрелость и завершенность “классического периода”, свою преизбыточность знойной роскоши, уже близящейся к упадку, свой “барокк[о]”, свой старческий упадок и свою роковую смерть в лице “цивилизации”, этого окостенения и помертвения культурного организма, так сказать, его старческого склероза. Прошедшая такой цикл культура умирает, погружается снова в темное растительное лоно хаоса “перводушевности”, и на смену ей возникает из тех же недр новая младенческая культура, которой нет дела до старой, отжившей, которая не знает и не понимает ее и начинает опять заново творить с в о й мир, единственный и неповторимый, свой собственный смысл и образ бытия. Этот художественно-исторический релятивизм наталкивается прежде всего на одно основное возражение, непреодолимое для всякого релятивизма. Возражение это, до банальности элементарное и на первый взгляд безжизненно- педантичное, все же убийственно для всякого релятивизма, и потому его приходится неустанно повторять. Оно сводится к обнаружению противоречия между с о д е р ж а н и е м релятивизма и формальным смыслом его, как определенного утверждения. Если в с е на свете, без исключения, относительно, то о т н о с и т е л ь н о и э т о у т в е р ж д е н и е о т н о с и т е л ь н о с т и и следовательно, “абсолютизм” вовсе не побежден “релятивизмом”. “Относительное” имеет смысл только в связи с “абсолютным”, и вне этой связи теряет свой смысл. Это возражение делает Рудин в одноименном романе Тургенева цинику Пигасову, легко показывая бессмысленность “убеждения”, отрицающего всякие убеждения; и это возражение, несмотря на всю его “старомодность” и “банальность”, всякая истинная философия, сознающая сама себя, будет не переставать противопоставлять всякому релятивизму и скептицизму, в какой бы утонченной и талантливой форме он ни возрождался. В отношении Шпенглера это основное возражение должно прежде всего приводить к уяснению противоречия, заключающегося между с о д е р ж а н и е м теории Шпенглера и самим фактом возможности такого с и н т е з и р у ю щ е г о обзора р а з н ы х культур, который дан в его книге. Теория Шпенглера, последовательно проведенная – теория замкнутости и отрешенности “душ” отдельных культур, их совершенной несравнимости, непроницаемости и непонятности друг для друга – опровергается лучше всего духовной личностью самого Шпенглера. Есть, значит, в глубине всех отдельных культур какая-то общая точка, что-то общечеловеческое и вечное, в чем они все сходятся – именно та сфера духовного творчества или культурного духа вообще, в которой живет мысль самого Шпенглера. Как бы различны, несходны, своеобразны ни были эти культуры, их последнее духовное е д и н с т в о доказывается, вернее сказать, реально обнаруживается, вопреки всем рассуждениям и иллюстрациям Шпенглера, в самом факте, что европеец ХХ-го века с любовью и чутким пониманием проникает в своеобразный дух индусской и египетской, античной и арабской культур. Пусть сам Шпенглер пытается объяснить этот факт тем, что западная, “фаустовская”, культура искони проникнута “историзмом” (в отличие, например, от античной “аполлоновской” культуры, живущей мигом настоящего), и что в особенности переживаемая нами эпоха упадка этой культуры есть наиболее благоприятный момент для возникновения таких ретроспективных обзоров культур, – эти психологические доводы недостаточны, ибо не объясняют возможности подлинного о с у щ е с т в л е н и я таких замыслов. Таким образом, исторический релятивизм Шпенглера опровергается, прежде всего, живым ощущением о б щ е - ч е л о в е ч е с к о г о е д и н с т в а, которым веет от его книги, вопреки всем ее сознательным утверждениям, и самоочевидным документом которого с л у ж и т сама его книга. Это есть первое преодоление релятивизма, так сказать, в субъективной сфере носителя культуры, в области п с и х о л о г и и культуры. Но за ним следует дальнейшее, более принципиальное преодоление релятивизма в объективной сфере самого духовного бытия, или – что то же самое – в области философии к у л ь т у р ы. Шпенглер набрасывает замысел философии культуры, или философии истории, которая должна служить заменой отвлеченной онтологии, должна быть осуществлением истинной, проникающей в последние глубины жизни, философии. Этот ценный замысел ф и л о с о ф и и ж и з н и в противоположность отвлеченной философии – замысел, в котором Шпенглер совпадает с рядом глубоких и плодотворных течений современной мысли (укажу на Ницше, Бергсона, Дильтея, Макса Шеллера)* – ставит своей задачей проникнуть в существо бытия истинно интуитивно, изнутри, через постижение глубочайшего онтологического значения категорий человеческой духовной жизни. Но у Шпенглера этот замысел остается неосуществимым и, при его понятиях, совершенно неосуществимым. Мы ощущаем смутные, туманные, непроясненные черты новой метафизики, которые назрели в духе Шпенглера, но затемнены и придавлены его историческим релятивизмом. Что это за “души культур”, которые, пробуждаясь из недр безмолвия, творят целые миры и потом исчезают? Что такое есть то “Urseelentum”, из которого они выступают и в лоне которого вновь растворяются? И отчего, при совершенном своеобразии и несходстве стилей тех грез или “миров”, которые творятся этими душами, во всех этих мирах есть все же какое-то сходство основных содержаний – ибо во всех этих творческих грезах есть пространство и время, числа и логические отношения, Бог и мир, природа и душа? Почему же все-таки эти души, хотя грезят и по-разному, но все же один и тот же сон? Все эти вопросы рождаются непосредственно из философского замысла Шпенглера, как бы предполагаются им, но он сам не только не дает на них ответа, но и не может его дать, ибо дать их значило 6ы построить п о л о ж и т е л ь н у ю м е т а ф и з и к у, которая, при всей неизбежной относительности своего осуществления, претендовала бы, как всякая метафизика, на абсолютное значение, т. е. было бы попыткой проникнуть в абсолютное и, значит, уже порвала бы путы релятивизма. Мысль Шпенглера оттого так чарует, его отдельные обобщения оттого так метки и проникают в существо предмета, что его творчество р е а л ь н о прикасается к тем глубинам, в которых заложены в е ч н ы е и а б с о л ю т н ы е корни человека и мира; но он боится в этом сознаться самому себе, он касается этих глубин лишь извне, с непосредственной художественной симпатией к ним и интуитивным чутьем их; поскольку же мысль его оформляется и сознательно освещается, она блуждает по чисто внешней исторической поверхности человеческой жизни. Основная интуиция Гете, к которой Шпенглер, по его собственным уверениям, примыкает – интуиция, для которой “все преходящее есть только символ” (“Alles Vergдngliche ist nur ein Gleichniss”) и все историческое и космическое волнение есть “вечный покой в Боге” (“alles Drдngen, alles Ringen ist ew'ge Ruh' im Gott dem Herrn”) – эта интуиция остается лишь замышленной, но не осуществленной у Шпенглера. Философия истории или философия культуры, проникающая в абсолютное существо бытия, должна, напротив, постигать преходящие исторические формы, лишь как внешнее выражение вечных и неизменных моментов жизни, как жизни самого абсолютного. Настоящая чуткость к исторически своеобразному, совершенно конкретному, настоящее живое знание достигается не релятивизмом, не блужданием в хаосе изменчивости и разрозненного многообразия, а проникновением в абсолютное и вечное ж и в о е е д и н с т в о б ы т и я и ж и з н и, из которого впервые становится понятной необходимость этого многообразия и этой изменчивости. Так релятивизм Шпенглера и в этом философском смысле предполагает то единство – здесь уже не психологическое, а онтологическое, – которое он пытается отрицать. Пафос его философии имеет в себе что-то незавершенное; его творчество как-то нерешительно витает в промежутке между глазированным эстетизмом, который – ни во что сам не веруя и ничего не творя – отдается художественному восприятию многообразных форм чужого духовного творчества (или, в лучшем смысле, проникнут бессильным романтическим томлением по духовному богатству) – и теми глубинами истинно мужественного, творящего философского духа, в которых открывается вечный и непреходящий с м ы с л всего многообразия внешних форм жизни, а, следовательно, и их коренное внутреннее единство. Эта двойственность и незавершенность мысли Шпенглера сказывается и на его отношении к проблемам и с т о р и и – самой жгучей и заманчивой теме современных философских исканий. Шпенглер исходит из вполне правильного и глубокого в своей основе замысла преодолеть ходячую, банальную концепцию всемирной истории, с ее плоским рационалистическим оптимизмом, выражаемом в теории “прогресса”, с ее убогим провинциализмом мысли, для которого вся грандиозная полнота всемирно-исторической жизни имеет своим “назначением” довести человечество до современной европейской цивилизации, с ее ребяческим доверием к иллюзиям исторической перспективы, в силу которых исторически отдаленные тысячелетия сливаются в бессодержательно-однородный и потому краткий период, а ближайшие к нам века выступают, как что-то особенно многозначительное, богатое и потому длительное и, наконец, с основанной на всех этих предубеждениях наивной и противонаучной схемой, в которой ряд тысячелетий древнего Востока, совместно с античной культурой, сжимаются в одну “древнюю историю”, за которой следует одно тысячелетие так называемых “средних веков” и, наконец, несколько столетий западно- европейского “нового времени”. Этой “птолемеевской” исторической картине он противопоставляет свой гордый и, повторяем, в основе совершенно правильный замысел чисто объективной, независимой от позиции зрителя и его субъективных оценок, “коперниканской” картины истории. Но к чему, собственно, сводится осуществление этого замысла? В бесконечном, темном, дремлющем и в сущности безжизненном океане человеческого бытия – того, что Шпенглер зовет “Urseelentum” – от времени до времени, то там, то сям вспыхивают огоньки творящих духовных сил, понемногу разгораются в яркие, разноцветные, огненные фонтаны культуры, постепенно истощаются, тускнеют и снова угасают. Мы не понимаем ни связи между этими духовными огнями, ни общего смысла этого фейерверка; более того, ни связи между собой, ни смысла они н е и м е ю т. Идея с у д ь б ы, которую Шпенглер тонко противопоставляет, как основную категорию исторически-жизненного постижения, идее “закона”, как категории отвлеченного знания – эта идея судьбы оказывается совершенно неприменимой к человечеству, потому что нельзя назвать “судьбой» бессвязный и бессмысленный ряд пробуждений и замираний. Но, в сущности, не имеет с у д ь б ы и каждая отдельная культура, потому что роковой, неизменный, предопределенный путь от младенчества, через зрелость, к старости и умиранию не есть с у д ь б а в духовном смысле слова; это – биологический закон природы, а не осмысленное, определенное внутренними духовными силами, драматическое единство жизни. Мы опять наталкиваемся здесь на шаткость позиции Шпенглера, на какое-то неразрешенное колебание между в н е ш н и м и в н у т р е н н и м подходом к истории. Замысел Шпенглера в известном смысле направлен на преодоление столь популярного в наше время в н е ш н е г о и с т о р и з м а, как бессмысленной погруженности сознания в хаос чистой изменчивости и даже как идолопоклоннического культа этой изменчивости, – преодоление путем раскрытия символического в е ч н о г о с м ы с л а истории. Но этот замысел разбивается об уже указанный исторический релятивизм Шпенглера, который есть плод старого, внешнего подхода к истории. У Шпенглера есть, в сущности, только с у б с т р а т истории, как бы внутренняя материя истории, в лице того Urseelentum, в лоне которого таятся души культур и из которого они выходят, но нет внутреннего носителя, с у б ъ е к т а истории – никакого понятия, которое соответствовало бы, например, понятию “мирового духа” у Гегеля. А между тем, вне этого или аналогичного ему понятия субъекта истории, совершенно невозможно, недостижимо то подлинно- объективное историческое понимание, та универсальная ориентированность в истории, которых добивается Шпенглер. Подобно тому, как внешнее наблюдение пространства дает нам всегда картину, искаженную иллюзиями перспективы, в зависимости от субъективной позиции самого наблюдателя, и ограниченную пределами внешне-видимого горизонта, т. е. дает всегда “птолемеевскую”, а не “коперниканскую” картину мира, так и внешний подход к истории с определенного временного места в н е й с а м о й неизбежно приводит к той же самой иллюзорности или субъективности. В лучшем случае можно, исходя и в том и другом случае из наглядных представлений, дополнять чувственно- видимое или переживаемое воспоминаемыми образами же и н ы х отрывков пространства и времени; и тогда мы получаем, как максимум достижимой здесь объективности, бессвязное множество отдельных, наглядно обозримых, клочков пространства и времени. Едва ли не таково то “объективное”, “коперниканское” воззрение на историю, которое дает нам Шпенглер. Для истинно-“коперниканского” исторического мировоззрения нужна совершенно иная установка сознания, подход к истории с той внутренней ее стороны, в которой она действительно имеет о б ъ е к т и в н ы й ц е н т р, – а это значит, ориентировка в истории с позиции ее с в е р х в р е м е н н о г о е д и н с т в а. Тогда мы получаем непрерывность, единство, осмысленность истории не в форме иллюзорного представления ее устремленности или направленности на ту точку времени, в которой мы случайно находимся, и озаренности ее односторонним и субъективным светом этой случайной точки, а в форме устремленности ее к ее сверхвременному смыслу и пронизанности ее единством этого объективного, внутреннего и потому истинно всеобъемлющего света. История с этой точки зрения является нам, при всей случайности и смутной хаотичности ее внешних событий, необходимым осуществлением вечных возможностей или потенций, предуказанных самой неизменной природой человека, драматическим изживанием целостного смысла человечества, – изживанием, каждый момент которого имеет свою самодовлеющую ценность и постигается из его связи с всеединством сверхвременного бытия. Эта отнесенность всего частного к сверхвременному всеединству есть необходимое условие непрерывности или связности научного знания вообще, а такая связность есть основное требование даже самой обыденной, трезво- эмпирической научной мысли. В этом отношении надо признать, что Шпенглер, в своих исторических конструкциях, как бы блестящи и подкупающи они ни были, делает шаг назад – с чисто формально-методической стороны – даже по сравнению с ходячими, ординарными историческими представлениями. Как бы односторонни, субъективны и поверхностны ни были обычные представления хода “мировой истории”, во всяком случае они мыслят его, как связное целое, и пытаются – худо или хорошо – проникнуть в связь или непрерывность, объединяющие прошлое с настоящим. С этой точки зрения совершаемое Шпенглером раздробление того исторического процесса, который объемлет и объединяет так называемые эпохи “античности”, “средневековья” и “нового времени”, на три совершенно разнородные, замкнутые в себе и отрешенные друг от друга культуры – “аполлоновско-античную”, “арабско-магическую” и “западную-фаустовскую”, содержит явное умаление и искажение уже достигнутого исторического знания. Все, что он говорит об этих трех культурах, само по себе по большей части очень метко и очень верно, и мы невольно поддаемся тонкости и глубине его интуиций. За всем тем остается явно неверной сама картина р а з д р о б л е н н о с т и целого европейской истории на эти три замкнутые культуры, и исчерпанности его их последовательной сменой. Сходное и внутренно-близкое оказывается здесь разложенным на совершенно разные и непримиримые между собой культурные эпохи, в других отношениях глубоко разнородное искусственно сближается, а для многого вообще не остается места в этой схеме. Шпенглеру не удается нас переубедить, напр.[имер], в том, что миросозерцание Бл. Августина, которое по его концепции относится к магической “арабской” культуре, не содержит моментов того “фаустовского” томления духа по бесконечности, которое, по Шпенглеру, впервые зарождается в эпоху крестовых походов, или в том, что в известном смысле уже древний Гераклит полон этого “фаустовского” духа (в широком смысле, в каком этот термин употребляет Шпенглер). С другой стороны, он не может нас убедить в том, что ренессанс не положил грани между новым временем и т.[ак] называемым “средневековьем”, что различие между « магическим» человеком скажем, девятого или десятого века и “фаустовским” человеком двенадцатого или тринадцатого века (между, напр.[имер,] Скотом Эриугеной и Данте) неизмеримо более велико и принципиально, чем различие, напр.[имер,] между Данте и Гете (которые суть оба – представители “фаустовской” культуры). И наконец, – что самое важное – весь блеск художественных интуиций Шпенглера бессилен убедить нас в том, что христианство – которое в его концепции вообще совершенно исчезает, как особое культурное начало, и раздробляется между “арабско-магической” и “западно-фаустовской” культурами, – не было особым культурным началом, внесшим в дух человечества какой-то новый момент (в чем бы его ни находить и как бы его ни оценивать по существу). В конечном счете, когда обдумываешь такие и им подобные натяжки и пробелы, начинаешь сознавать что-то неладное в самой идее “культурной эпохи”, намеченной у Шпенглера. Абсолютный характер этого понятия у Шпенглера, в силу которого в пределах о д н о й культуры все окрашено е д и н ы м стилем, проникнуто е д и н ы м духом, и, наоборот, между разными культурами не оказывается н и ч е г о общего, и самый переход от одной к другой выражен лишь через отмирание одной и зарождение другой, без всякой внутренной непрерывности – этот абсолютный характер идеи “культурной эпохи” начинает сознаваться, как предвзятая схема или, по крайней мере, как преувеличение. Он противоречит единству и непрерывности исторического развития. Очевидно, те исторические единства, которые с таким блеском и яркостью интуиции намечает Шпенглер в лице своих “великих культур”, суть все же не единственные и не абсолютные деления истории, не какие-то замкнутые в себе и обособленные друг от друга острова в океане истории, а лишь относительные единства, наряду с которыми существуют и п е р е к р е щ и в а ю т с я с ними сближающие их между собой деления иного рода. Они суть не замкнутые и обособленные острова, а как бы великие волны исторического океана, которые соприкасаются одна с другой, часто сливаются в еще более широкие волны, часто сталкиваются с волнами и н о г о измерения, так что нарушается всякая четкость ритма в подъеме и упадке отдельных волн. Эта абсолютизация по существу относительных категорий – дань, которую релятивизм Шпенглера (как и всякий релятивизм) платит абсолютизму, который он тщетно пытается подавить – особенно явственно сказывается в том, что религиозный дух культуры, не укладывающийся в его схемы, оказывается у него совершенно затушеванным, оттесненным куда-то на периферию жизни. Он много и, как всегда, умно и тонко говорит о с т и л я х различных культов и догматов, но собственно живое религиозное начало, как носитель и сила культурного творчества, у него совершенно отсутствует. Мы уже указывали, что христианство вообще исчезает у него, не находя себе места в его схемах; оно разрезывается пополам двойственностью между “магической” и “фаустовской” культурой; причем одна половина его сливается в культурное единство с исламом, или с средневековым арабским пантеизмом, а другая половина растворяется в одно целое вместе с ренессансом, и даже эпохой просвещения и современным капитализмом. Точно также он признает и отчасти с большей тонкостью изображает индийскую, вавилонскую, египетскую, даже китайскую культуру, но культурно-историческая роль иудейского монотеизма даже не поминается у него. А между тем, как бы кто ни относился к религии по существу, совершенно несомненно с чисто исторической точки зрения, что всякая культура произрастает прежде всего из недр определенного религиозного духа. Этим мы затрагиваем другой существенный пробел творчества Шпенглера. Его исторические, как и его философские интуиции суть интуиции художественные, эстетические; религиозной интуиции он лишен, а потому лишен и религиозно-исторического чутья. Где он говорит о религии, она является у него либо только в роли духовного м а т е р и а л а, формируемого силами эстетического порядка, либо подменяется э с т е т и ч е с к о й м е т а ф и з и к о й. Та сила, которая у него творит культуру есть, собственно, х у д о ж е с т в е н н а я сила духа; тот духовный порыв человеческого духа, который творит статую и картину, музыку и поэзию, у Шпенглера творит также и Бога, и народный быт, и государственный порядок. Или, если Шпенглер намекает на силу более глубокого, целостного порядка – в указании на метафизический с т р а х и метафизическую м е ч т у в душе, творящей культуру, – то этот намек только остается намеком, а в осуществлении его идея целостного религиозного духа подменяется идеей художественного духа, который находит свое выражение и удовлетворение в пластическом формировании мировых образов. Религия – как, с другого конца, и наука – есть для Шпенглера только одна из духовных сфер, подчиненных творящему художественному началу, а не средоточие и глубочайший корень жизни и творчества. В этом опять обнаруживается п р о м е ж у т о ч н о с т ь позиций Шпенглера, наличность в нем чутья и внимания к тем глубинам жизни, в которых он сам внутренно и действенно не укоренен. Горячий, благородный и тоскующий эстетизм – в этом заключена и сила, и слабость Шпенглера. * * |
|
© 2000 |
|