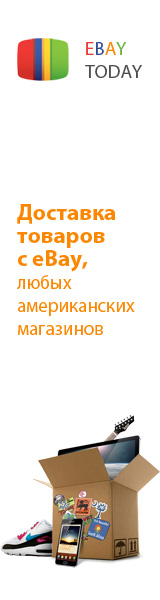|
РУБРИКИ |
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европы |
РЕКЛАМА |
||
|
Культурная морфология О.Шпенглера Закат Европы* Мы имеем теперь опорные точки для оценки если не центральной, то наиболее “боевой” и сенсационной темы Шпенглера – его учения о роковом “падении” или “закате” западной культуры. В сущности, учение это есть лишь вывод из его общих философских и философско-исторических концепций, приложение их к конкретному вопросу о судьбе последней из пережитых человечеством “великих культур” – западной культуры. Строго говоря, было бы вполне возможно принять изложенные выше о с н о в н ы е посылки Шпенглера и не принимать этого вывода, именно, если внести поправки в его “меньшую» посылку – в характеристику “западной” культуры, в определение ее начала, ее расцвета и заката. Во всяком случае, чтобы знать, чем мотивируется диагноз и прогноз Шпенглера “о закате западной культуры”, надо выяснить, что он разумеет под “западной культурой”. Отчасти это ясно читателю уже из предыдущего. В противоположность обычным историческим концепциям, “западная культура” у Шпенглера не совпадает ни с культурой европейского запада в широком смысле слова, как ее обычно выводят из римской культуры и западно-европейского средневековья, ни с более узким понятием “новой” западной культуры, начало которой обыкновенно видят в ренессансе и реформации. Географическая Европа (из которой Шпенглер категорически исключает Россию) пережила, по Шпенглеру, три великих культуры: античную греко-римскую, закончившуюся около Р. Х., арабскую или “магическую” (в состав которой входит и первая стадия христианства, вплоть до крестовых походов) и “западную” или “фаустовскую”, которая начинается в ХI-ХII веке и заканчивается на наших глазах (ее окончательную гибель Шпенглер предвидит в течение текущего столетия, приблизительно, к 2000 году). В противоположность античной “аполлоновской” культуре, дух которой есть погружение в единичное, в конкретную телесность, пафос ограниченности и пластической оформленности, жизнь в самодовлеющем настоящем, в противоположность сменяющей ее арабской или “магической” культуре, существо которой лежит в ощущении тайны или духовного начала в н у т р и конкретного, вещественного бытия (эту “магическую” культуру Шпенглер, по крайней мере, в вышедшем первом томе своей книги, характеризует лишь вскользь, недостаточно обстоятельно), – западная культура есть культура “фаустовская”. В основе ее лежит интуиция бесконечности, жажда преодоления всего ограниченного и конкретно-наглядного, острое чувство временной длительности и изменчивости, и интенсивное волевое напряжение. Крестовые походы, вызванные устремлением народа вдаль, и готическая архитектура, с ее устремленностью ввысь, суть первые яркие ее выражения. Ренессанс, по Шпенглеру, не имеет для нее основополагающего значения: это есть только эпизод борьбы с готикой, лишенный положительных идеалов, и уже в лице Микеланджело переходящий в барокк[о], в фаустовскую необузданность и безмерность, так сказать, трансцендентность духовных влечений. Свое высшее, художественное выражение эта культура находит сначала в живописи ХVII-го века, у Рембрандта, растворяющего пластическую оформленность телесного бытия в неуловимую непрерывность светотени, а затем, после неизбежного упадка живописи, в великой контрапунктической музыке ХVIII-го века, у Баха, Моцарта и Бетховена. Свое научное выражение эта культура находит в “фаустовской» математике ХVII и ХVIII в., в открытии Ньютоном и Лейбницем дифференциального исчисления и в процессе выработки чисто отвлеченного понятия числа, в создании идеи непрерывности и бесконечности, в противоположность конкретно наглядному и “телесному” числу античной культуры – в математических открытиях Ферма, Эйлера, Лагранжа, д’Аламбера и последнего “великого математика” Гаусса, – и в преодолении наглядной геометрии Евклида. Аналогичное значение имеет западное естествознание: в лице Коперника открывается астрономическая бесконечность мира, развитие физики и химии идет в направлении перехода от качественно-наглядных античных понятий к понятиям отвлеченным и количественным. Высшее свое общественное выражение это “фаустовская” культура получает в национальной монархии ХVII-ХVIII в. Во всех областях жизни мы имеем один и тот же процесс: контрапунктическая абсолютная музыка, новая живопись с бесконечностью перспектив и непрерывностью световых нюансов, дифференциальное исчисление и метагеометрия, отвлеченная математическая механика, растворяющая в себе физику и химию, трансцендентность национально- государственной идеи – все это проникнуто одним и тем же фаустовским духом. Эпоха наполеоновских войн, примерно, около 1800 года, есть момент, с которого эта фаустовская культура клонится к упадку, переходит в омертвение “цивилизации”. Культурное творчество иссякает, заменяясь тенденцией экстенсивного расширения (империализм). Большие города поглощают деревню, столица – провинцию, жизнь становится все более однообразной и механической, идейный уровень понижается, искусство полно старческого духа. Философия, как это было и в эпоху упадка античной культуры, становится преимущественно этикой, а позднее общественная мысль подчиняется уже чисто экономическим мотивам. Фаустовский дух окончательно опознает себя (и вместе с тем свою тщету) в философии воли Шопенгауэра; “дарвинизм” превращает эту волю в хозяйственно-биологическую “борьбу за существование”, социализм – соответствующий античному стоицизму – утрачивает метафизически-духовный корень фаустовской культуры и преобразует ее в идею космополитического хозяйственного устроения (переход, символически предуказанный 2-ой частью “Фауста” Гете). Техническое преодоление пространства и времени, лихорадочная острота и напряженность чисто внешней жизни, телеграф и мировая журналистика, безыдейность столичного общественного мнения – суть признаки последнего, старческого вырождения фаустовского духа. Ницше в последний раз открывает его тайну в понятии “воли к власти”, Вагнер дает последнее, совершенно трансцендентное и проникнутое непрерывностью музыкальное выражение этого фаустовского томления. Последние научные идеи и открытия – принцип энтропии, предрекающий смерть вселенной, принцип относительности, растворяющий механико-математические основы космического бытия в неуловимости, зыбкости, вечном трепете невообразимого, почти духовного начала – суть последние, предельные выражения умирающего “фаустовского” духа, который перед смертью как бы подводит итоги своей мировой картины, узнает в ней самого себя и в этом последнем самосознании возвращается в то исконное лоно духовности, из которого он некогда исшел. Свой собственный исторический релятивизм Шпенглер считает последней и единственно адекватной умирающему фаустовскому духу философией. Эта характеристика и история западной культуры, блестящая и яркая, как все у Шпенглера, во многих деталях поражающая своей меткостью и проницательностью, страдает, по нашему мнению, одним основным недостатком, связанным с указанными выше дефектами философской мысли Шпенглера и приводящим его, как мы убеждены, к все же ложному диагнозу и прогнозу. Конечно, самое уловление момента у м и р а н и я западной культуры в явлениях “цивилизации” ХIХ века должно быть признано бесспорным. Эта идея Шпенглера, неслыханная по новизне и смелости в западной мысли, нас, русских, не поражает своей новизной: человек западной культуры впервые осознал то, что давно уже ощущали, видели и говорили великие русские мыслители-славянофилы. От этих страниц Шпенглера, проникнутых страстною любовью к истинной духовной культуре Европы, которая вся в прошлом, и ненавистью к ее омертвению и разложению в лице ее современной мещанской “цивилизации”, веет давно знакомыми, родными нам мыслями Киреевского, Достоевского, Константина Леонтьева. Это, конечно, не умаляет, а скорее даже увеличивает значение книги Шпенглера, ибо все подлинно-истинное, всякая настоящая, проникающая вглубь интуиция никогда не бывает абсолютно оригинальным достоянием одного ума, а всегда находит себе отклик во многих умах, и опирается на некоторую традицию. Повторяем, спору нет: “запад” или “западная культура” в к а к о м - т о смысле дряхлеет и умирает. Весь вопрос в том: в к а к о м и м е н н о смысле или – точнее – к а к а я и м е н н о “западная культура” умирает. И здесь, в ответе на этот вопрос, нам должна уясниться шаткость, неточность, в конечном счете ложность самого понятия “западной культуры” у Шпенглера. Мы уже видели, что понятие “западной культуры” у Шпенглера совершенно своеобразно, не совпадая н и с общепринятым широким понятием ее, как культуры, вырастающей на обломках античной, впитывающей в себя ее дух вместе с духом христианства и объемлющей весь период времени от падения античности вплоть до наших дней, н и с более у з к и м понятием “новой” западной культуры, основанной на преодолении “средневековья” и исторически исходящей из великих духовных движений ренессанса и реформации. Взамен обоих этих понятий Шпенглер строит свое собственное понятие “фаустовской культуры”, которая, с одной стороны, объемлет в себе, как в едином неразрывном целом, позднее “средневековье” и новую историю, а с другой стороны – исключает из себя все первое тысячелетие христианской эры. И это понятие возводится именно в значение замкнутого, самодовлеющего целостного организма, который имеет единую (именно “фаустовскую”) душу, живет единой жизнью и в наши дни близится к умиранию, как ц е л о е. Нет надобности восстановлять ходячие, давно уже пошатнувшиеся в исторической науке понятия “средних веков” и “нового времени”, чтобы заметить, по меньшей мере, чрезмерную абсолютность и упрощенность концепции Шпенглера. Уже тот, отмеченный нами выше, факт, что христианство оказывается у Шпенглера вообще отсутствующим в роли фактора, определяющего культуру, и механически рассекается на две части, будто бы не имеющие между собой в внутренне- духовном смысле, ничего общего (именно на “магическое” и на “фаустовское” христианство), – говорит против этой концепции. Понятие “фаустовской” культуры принимает в связи с этим очень неясный характер. Можно вполне согласиться, что в известном смысле этот “фаустовский” дух определяет собою н о в у ю европейскую культуру, начиная с ренессанса (напр.[имер,] с Леонардо да Винчи и даже уже с Петрарки), (недаром легенда о докторе Фаусте идет именно из эпохи немецкого ренессанса), но чтобы готическая архитектура или поэзия Данте были выражением т о г о ж е фаустовского духа – это более, чем спорно, это просто неверно. Правда, ч т о - т о о б щ е е между этим культурным творчеством позднего средневековья и фаустовским духом все-таки есть, и мысль Шпенглера не абсолютно лишена основания. Но наряду с этим общим есть и что-то глубоко различное, и тут надо отдать себе ясный отчет как в том, так и в другом. Концепции Шпенглера мы можем здесь только противопоставить иное понимание истории западной культуры, не имея возможности подробнее обосновать его* . В эпоху так называемого позднего средневековья, начиная, примерно, с ХII- ХIII века, в европейской культуре намечается великий духовный сдвиг, в известном смысле определивший собою все ее дальнейшее развитие. В противоположность одностороннему аскетически-дуалистическому направлению, по которому – по причинам, оставляемым нами здесь без раскрытия – пошло религиозное развитие первого периода средневековья, возникает великий замысел и великое влечение к оправданию, религиозному осмыслению и озарению конкретных “земных” начал жизни – живой человеческой личности со всем богатством ее душевного мира, природы, рационального научного знания. Это есть попытка, не отрываясь от целостного духовного центра, преодолеть его замкнутость, распространить его лучи на всю конкретную периферию жизни. В Франциске Ассизском, в живописи Фра Анджелико и Джотто мы имеем яркие проявления этого духа. Величайшее, самое глубокое и целостное свое выражение он получает у Данте. “Vita nuova” Данте есть луч света, открывающий совершенно новый мир, истинно новую жизнь, какой она могла бы быть, какою она должна быть. Величайшее н а у ч н о е выражение этот дух получает позднее, в ХV веке, в великой философской системе Николая Кузанского, которая, предвосхищая все основные идеи позднейшей науки – Коперниканское мировоззрение, новую математику и математическое естествознание, дифференциальное исчисление – и все основные устремления позднейшей общественной нравственной мысли, вплоть до идеи народоправства – с величайшей естественностью вмещает их в целостное, глубоко-органическое и традиционное религиозно-духовное миросозерцание. Это сочетание величайшей духовной свободы с глубочайшей непосредственностью и органической укрепленностью в духовной почве, сочетание, которое изумляет нас в особенности в Данте и в Николае Кузанском, длилось недолго. По причинам, которые лежат в таких глубинах творящего духа, что их, быть может, вообще нельзя анализировать и выразить в определенных понятиях, эта великая попытка н е у д а е т с я. В глубинах духа совершается какой-то надлом; он отрывается от корней, прикрепляющих его к его духовной почве, связывающих его с объединяющим центром духовного света. Стоит сравнить, например, Данте уже с Петраркой или Фра Анджелико с Боттичелли и Леонардо, или Николая Кузанского с его учеником и последователем Джордано Бруно, чтобы непосредственно увидеть, что здесь случилось что-то роковое и непоправимое, что духовная свобода куплена здесь какой-то очень дорогой ценой. С этого момента начинается то, что называется ренессансом или – что то же – “новой историей”. Фауст, в своем порыве изведать всю жизнь, слиться со всей вселенной, отчаявшись в возможности сделать это силой своего целостного духа, внутренне связанного с Богом, продал свою душу дьяволу. Жизнь расцветает пышным цветом, развивается свободная наука, овладевающая миром, свободная личность начинает перестраивать весь мир по-своему – но корни этого роскошного цветка засыхают и понемногу отмирают. Отсюда неизбежное томление духа, подлинно фаустовская тоска, сопровождающая это блестящее развитие. В ХVIII веке философия окончательно обездушивает мир и жизнь, но именно на пороге ХVIII и ХIХ веков – в тот момент, который Шпенглер считает н а ч а л о м умирания западной культуры – начинается кризис р е а к ц и и п р о т и в этого духа “новой истории”. Огромное потрясение Великой Французской Революции было главным толчком к ней. Величайшим выразителем этой реакции против обездушения жизни и томления по новой духовности был Байрон. В романтике и немецком идеализме мы замечаем не одну лишь тоску по духу, но и начало истинного его воскрешения. С тех пор это течение, медленно и с трудом пробиваясь сквозь толщу более поверхностных сил, ему противодействующих, и по временам как будто исчезая с поверхности исторической жизни, подземной струей доходит до наших дней и образует теперь самую глубокую и духовно-влиятельную силу внутреннего идейного творчества. Правда, общественное развитие еще более столетия идет, по инерции, по направлению, по которому его погнала сила “ренессанса” и “новой истории”, но оно уже давно лишено подлинного духовного творчества, которое его изнутри питало бы. Даже социализм, как и д е й н о е движение, имеет двойственные истоки: будучи, с одной стороны, последним завершением рационалистического свободомыслия, продолжая дело Руссо и Бентама, он, с другой стороны, коренится в романтике Сен-Симона (т. е. Жозефа де Местра) и в Гегелевском замысле органического идеализма. Величайший объективный трагизм переживаемой нами эпохи состоит в том, что поверхность исторической жизни залита бушующими волнами движения, руководимого духовно-отмирающими силами ренессанса, а в глубинах жизни, еще совершенно бездейственно и уединенно, назревают истоки нового движения, которому, быть может, суждено сотворить новую культуру, искупив основное грехопадение ренессанса. Таким образом, несомненная “гибель западной культуры” есть для нас гибель лишь одного ее т е ч е н и я, хотя и объемлющего несколько веков. Это есть конец того, что зовется “новой историей”. Но этот конец есть вместе с тем и начало, эта смерть есть одновременно рождение. И здесь книга Шпенглера опять самым фактом своего возникновения и необычайного успеха свидетельствует п р о т и в его теории. Здесь мы снова наталкиваемся, в иной связи, на коренную противоречивость этой книги. Каким образом умирающий дух, дух омертвелой цивилизации, м о г оказаться столь чутким и глубоким ценителем и знатоком культуры? Казалось бы, дух “цивилизации” способен творить только теорию технического прогресса и должен не понимать и презирать всякую духовность, искусство и религию. Или, если случайно среди этого умирающего духа, нашлась запоздалая личность, понимающая то, что уже недоступно коллективному духу, то, очевидно, что ее мысли должны были бы пройти бесследно, не встретив живого отклика. В действительности книга Шпенглера была ощущена этим “умирающим” западом, как крупное и важное событие его духовной жизни. Понятно почему: не возвещая ничего нового, будучи проникнута пессимизмом и скептицизмом, эта книга, напоминая современному человечеству об истинных духовно-исторических силах культуры, идет навстречу его пробуждающейся жажде подлинного культурного творчества, его стремлению к духовному в о з р о ж д е н и ю. Старое “возрождение” изжито и умирает, уступая место н о в о м у в о з р о ж д е н и ю. Человечество – вдалеке от шума исторических событий – накопляет силы и духовные навыки для великого дела, начатого Данте и Николаем Кузанским и неудавшегося, благодаря роковой исторической ошибке или слабости их преемников. То, что переживает в духовном смысле Европа, есть не гибель западной культуры, а глубочайший ее к р и з и с, в котором одни великие силы отмирают, а другие нарождаются. И мы кончаем тем, с чего мы начали: если не самым глубоким и плодотворным, то во всяком случае, самым замечательным и ярким симптомом этого кризиса является книга Шпенглера. Глава 5 Предсмертные мысли Фауста. __________ Судьба Фауста – судьба европейской культуры. Душа Фауста – душа Западной Европы. Душа эта была полна бурных, бесконечных стремлений. В ней была исключительная динамичность, неведомая душе античной, душе эллинской. В молодости, в эпоху Возрождения и еще раньше, в Возрождении средневековом, душа Фауста страстно искала истину, потом влюбилась в Гретхен и для осуществления своих бесконечных человеческих стремлений вступила в союз с Мефистофелем, с злым духом земли. И фаустовская душа постепенно была изъедена мефистофелевским началом. Силы ее начали истощаться. Чем кончились бесконечные стремления фаустовской души, к чему привели они? Фаустовская душа пришла к осушению болот, к инженерному искусству, к материальному устроению земли и материальному господству над миром. Так кончается вторая часть « Фауста» . “Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, Verpestet alles schon Errungne; Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, Das letzte wдr'das Hцchsterrungne, Erцffn'ich Rдume vielen Millionen, Nicht sicher zwar, doch thдtig – frei zu wohnen”. Так кончаются в ХIХ и ХХ веке искания человека новой истории. Гете гениально предвидел это. Но последнее слово у него принадлежит мистическому хору: “Alles Vergдngliche Ist nur ein Gleichniss: Das Unzulдngliche Hier wird's Ereigniss; Das Unbeschreibliche, Hier ist's gethan: Das Ewig – Weibliche Zieht uns hinan”. И осушение болот лишь символ духовного пути Фауста, лишь ознаменование духовной действительности. Фауст в пути своем переходит от религиозной культуры к безрелигиозной цивилизации. И в безрелигиозной цивилизации истощается творческая энергия Фауста, умирают его бесконечные стремления. Гете выразил душу западно-европейской культуры и ее судьбу. Шпенглер в своей волнующей книге “Der Untergang des Abendlandes” возвещает конец европейской культуры, окончательный ее переход в цивилизацию, которая есть начало смерти. “Цивилизация – неотвратимая судьба культуры”. Книга Шпенглера имеет огромное симптоматическое значение. Она дает ощущение кризиса, перелома, конца целой исторической эпохи. Она говорит о большом неблагополучии Западной Европы. Мы, русские, уже долгие годы оторваны от Западной Европы, от ее духовной жизни. И потому, что нам закрыт доступ в нее, она представляется нам более благополучной, более устойчивой, более счастливой, чем это есть в действительности. Еще до мировой войны я очень остро ощутил кризис европейской культуры, наступление конца целой мировой эпохи и выразил это в своей книге “Смысл творчества”. Во время войны я написал статью “Конец Европы”, в которой выразил мысль, что начинаются сумерки Европы, кончается Европа, как монополист культуры, что неизбежен выход культуры за пределы Европы, к другим материкам, к другим расам. Наконец, два года тому назад я написал этюд “Конец Ренессанса” и книгу “Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы”, в которых определенно выразил идею, что мы переживаем конец новой истории, изживаем последние остатки ренессанского периода истории, что культура старой Европы склоняется к упадку. И потому я читал книгу Шпенглера с особенным волнением. В нашу эпоху, на историческом переломе, мысль обращается к проблемам философии истории. То же было в эпоху, когда Бл. Августин создавал свой первый опыт христианской философии истории. Можно предвидеть, что философская мысль отныне будет заниматься не столько проблемами гносеологии, сколько проблемами философии истории. В “Бхагавадгите” откровение происходит во время боя. Во время боя можно решать последние проблемы о Боге и смысле жизни, но трудно заниматься гносеологам анализом. И в наше время мысль работает во время боя. Мы живем в эпоху внутренно схожую с эпохой эллинистической, эпохой крушения античного мира. Книга Шпенглера – замечательная книга, местами почти гениальная, она волнует и будит мысль. Но она не может слишком поразить тех русских людей, которые давно уже ощутили кризис, о котором говорит Шпенглер. * * * Шпенглер может произвести впечатление крайнего релятивиста и скептика. Даже математика для него относительна. Существует античная аполлоновская математика, – математика конечного, и европейская фаустовская математика, – математика бесконечного. Наука не безусловна, не абсолютна, она есть лишь выражение душ разных культур, разных рас. Но в сущности Шпенглера нельзя причислить ни к какому направлению. Ему совершенно чужда академическая философия, он ее презирает. Он прежде всего своеобразный интуитивист. И в этом он родствен духу Гетевского созерцания. Гете интуитивно созерцал первофеномены природы. Шпенглер интуитивно созерцает историю первофеноменов культуры. Он также, как и Гете, символист по своему миросозерцанию. Он отказывается мыслить отвлеченными понятиями, не верит в плодотворность такого мышления. Ему совершенно чужда всякая отвлеченная метафизика. От мертвящего методологизма и гносеологизма, в который выродилась некогда великая германская мысль, от болезненной и бесплодной рефлексии обращается Шпенглер к живой интуиции. Он бросается в темный океан исторического бытия народов и проникает в души рас и культур, в стили эпох. Он порывает с эпохой гносеологизма в философской мысли, но не переходит к онтологизму, не строит никакой онтологии и не верит в возможность онтологии. Он знает лишь бытие, явленное в культурах, отраженное в культурах Первооснова бытия и смысл бытия остаются для него закрытыми. Морфология истории для него – единственная возможная философия. У него нет даже философии истории, а исключительно – морфология истории. Все истины, истины науки, философии, религии – для Шпенглера только истины культуры, культурных типов, культурных душ. Истины математики – символы разных стилей культурных душ. Такое отношение к познанию и бытию характерно для человека поздней, закатной культуры. Душа человека в эпохи культурного заката задумывается над судьбой культур, над исторической судьбой человечества. Так всегда бывало. Такая душа не интересуется ни отвлеченным познанием природы, ни отвлеченным познанием сущности и смысла бытия. Ее интересует сама культура и все – лишь в культуре отраженное. Ее поражает умирание некогда цветущих культур. Она ранена неотвратимостью судьбы. Шпенглер очень произволен, он не считает себя связанным никакой общеобязательностью. Он, прежде всего, – парадоксолист. Для него, как и для Ницше, парадокс есть способ познания. В книге Шпенглера есть какое-то сходство с книгой гениального юноши Вейнингера “Пол и характер”, несмотря на все различие тем и духовной настроенности. Книга Шпенглера – столь же замечательное явление в духовной культуре Германии, как и книга Вейнингера. По широте замысла, по размаху, по своеобразию интуитивного проникновения в историю культур, книгу Шпенглера можно еще сопоставить с замечательной книгой Чемберлена “Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts”. После Ницше – Вейнингер, Чемберлен и Шпенглер – единственные, подлинно оригинальные и значительные явления в Германской духовной культуре. Подобно Шопенгауэру, Шпенглер презирает профессоров философии. Он дает очень произвольный перечень ценимых им писателей и мыслителей, значительных по его мнению книг. Это люди очень разного духа. Но все они имеют отношение к принципу воли к жизни и воли к могуществу, все обозначают кризис культуры. Это – Шопенгауэр, Прудон, Маркс, Р. Вагнер, Дюринг, Ибсен, Ницше, Стриндберг, Вейнингер. Пессимист ли Шпенглер? На многих книга его должна произвести впечатление самого безграничного пессимизма. Но это – не метафизический пессимизм. Шпенглер не хочет угашения воли к жизни. Наоборот, он хочет утверждения воли к жизни и воли к могуществу. В этом он ближе к Ницше, чем к Шопенгауэру. Все культуры обречены на увядание и смерть. Обречена и наша европейская культура. Но нужно принять судьбу, не противиться ей и жить до конца, до конца осуществляя волю к могуществу. У Шпенглера есть amor fati. Пессимизм Шпенглера, если уместен такой термин в применении к нему, есть пессимизм культурно-исторический, а не индивидуально- метафизический и не индивидуально-этический. Он – пессимист цивилизации. Он отрицает идею прогресса, он возвращается к учению о круговороте. Но у него нет пессимистического баланса страданий и наслаждений, пессимистического понимания самого существа жизни. Он признает заключенный в перводуше неиссякаемый творческий источник жизни, порождающий все новые и новые культуры. Он любит эту волю к культурному цветению. И он принимает смерть культуры, как закон жизни, как неотвратимый момент в самой жизненной судьбе культуры. Изумительно сильно у Шпенглера сопоставление явлений в разных областях культуры и раскрытие в них однородного символа, ознаменовывающего ту же душу культуры, тот же культурный стиль. Он переносит понятия из математики и физики в живопись и музыку, из искусства в государство, из государства в религию. Так он говорит об аполлоновской и фаустовской математике. Он открывает одни и те же первофеномены в разные эпохи, в разных культурах. И он считает возможным признать однородными такие явления, как буддизм, стоицизм и социализм, принадлежащие разным эпохам и культурам. Наиболее замечательны его мысли об искусстве и о математике и физике. У него есть, поистине, гениальные интуиции. Шпенглер – арелигиозная натура. В этом его трагедия. У него как будто бы атрофировано религиозное чувство. В то время, как Вейнингер и Чемберлен – религиозные натуры, Шпенглер – арелигиозен. Он не только сам нерелигиозен, но он и не понимает религиозной жизни человечества. Он просмотрел роль христианства в судьбе европейской культуры. Это – самая поражающая сторона его книги. В этом ее духовное уродство, почти что чудовищность ее. Не нужно быть христианином, чтобы понять значение христианства в истории европейской культуры. Пафос объективности должен к этому принуждать. Но Шпенглер не чувствует себя принужденным к такой объективности. Он не созерцает христианства в истории, не видит религиозного смысла. Он знает, что культура религиозна по своей природе и этим отличается от цивилизации, которая безрелигиозна. Но религиозного смысла в культуре он не постигает. Он обречен себя чувствовать человеком цивилизации именно потому, что он безрелигиозен. Но ему дано было высказать самые благородные мысли, какие могли быть высказаны неверующей душой в наше время. За его цивилизаторским самочувствием и самосознанием можно ощутить печаль культуры, утерявшей веру и склоняющейся к упадку. * * * Шпенглер чувствует и познает мир прежде всего как историю. Это он считает современным чувством мира. Только такому отношению к миру принадлежит будущее. Динамизм характерен для нашего времени. И только постижение мира, как истории, есть динамическое постижение. Мир, как природа, статичен. Шпенглер противополагает природу и историю, как два способа рассмотрения мира. Природа есть пространство. История есть время. Нам мир предстоит, как природа, когда мы его рассматриваем с точки зрения причинности, и он нам предстоит, как история, когда мы рассматриваем его с точки зрения судьбы. Что история есть судьба, это очень хорошо у Шпенглера. Судьба не может быть понята, посредством причинного объяснения. Только точка зрения судьбы дает нам постижение конкретного. Очень верно утверждение Шпенглера, что для античного человека не было истории. Грек воспринимал мир статически, он был для него природой, космосом, а не историей. Он не знал исторической дали. Мысли Шпенглера об античности очень остры. Нужно признать, что греческая мысль не знала философии истории. Ее не было ни у Платона, ни у Аристотеля. Точка зрения философии истории противоположна эстетическому созерцанию эллина. Мир был для него завершенным космосом. Эллинская мысль создала элейскую метафизику, столь неблагоприятную для понимания мира, как исторического процесса. Сам Шпенглер чувствует себя европейским человеком с фаустовской душой, с бесконечными стремлениями. Он не только противополагает себя античному человеку, но он утверждает, что античная душа для него непонятна, непроницаема. Это, впрочем, не мешает ему притязать на ее понимание и проницание. Но существует ли история у самого Шпенглера, у него, для которого мир есть, прежде всего, история, а не природа? Я думаю, что для Шпенглера не существует истории и для него невозможна философия истории. Не случайно назвал он свою книгу морфологией всемирной истории. Морфологическая точка зрения взята из естествознания. Историческая судьба, судьба культуры существует для Шпенглера лишь в том смысле, в каком существует судьба цветка. Исторической судьбы человечества не существует. Не существует единого человечества, единого субъекта истории. Христианство впервые сделало возможным философию истории тем, что раскрыло существование единого человечества с единой исторической судьбой, имеющей свое начало и конец. Так для христианского сознания открывается впервые трагедия всемирной истории, судьба человечества. Шпенглер же возвращается к языческому партикуляризму. Для него нет человечества, нет всемирной истории. Культуры, расы – замкнутые монады с замкнутой судьбой. Для него разные типы культуры переживают круговорот своей судьбы. Он возвращается к эллинской точке зрения, которая была преодолена христианским сознанием. С Шпенглера как будто бы сошла вода крещения. Он отрекается от своей христианской крови. И для него, как для эллина, не существует исторической дали. Историческая даль существует лишь в том случае, если существует историческая судьба человечества, всемирная история, если каждый тип культуры есть лишь момент всемирной судьбы. Фаустовская душа с ее бесконечными стремлениями, с раскрывающейся перед ней далью, есть душа христианского периода истории. Это христианство разорвало грани античного мира, с его ограниченными, сдавленными горизонтами. После явления христианства в мире раскрывается бесконечность. Христианство сделало возможным фаустовскую математику, математику бесконечного. Этого совсем не сознает Шпенглер. Он не ставит явление фаустовской души ни в какую связь с христианством. Он просмотрел значение христианства для европейской истории, для судьбы европейской культуры. Судьба эта – христианская судьба. Он хочет оттеснить христианство исключительно к магической душе, к типу еврейской и арабской культуры, к Востоку. И он обрекает себя на непонимание смысла европейской истории. Для Шпенглера вообще не существует смысла истории. Смысла истории и не может быть при таком отрицании субъекта исторического процесса. Круговорот разных типов культуры, несвязанных между собой единой судьбой, совершенно бессмыслен. Но отрицание смысла истории делает невозможной философию истории. И остается лишь морфология истории. Но для морфологии история есть явления природы, в ней нет своеобразия исторического процесса, нет судьбы, как явления, смысла. В Шпенглере фаустовская душа окончательно теряет связь с христианством, которое ее породило, и в час заката фаустовской культуры она пытается вернуться к античному чувству жизни, приобщив к нему и тему истории. В Шпенглере, вопреки его подозрительному цивилизаторскому пафосу, чувствуется усталость перекультурного человека. Эта усталость человека эпохи заката угашает чувство смысла истории и связность исторических судеб. Остается только возможность интуитивно-эстетического проникновения в типы и стили душ культур. Фауст не выносит времени исторической судьбы, он не хочет до конца ее изживать. Он – усталый и истощенный новой историей, соглашается лучше умереть, пережив краткий миг цивилизации, явленной на вершине культуры. Его пленяет мысль, что дано это последнее облегчение и утешение смерти. Но смерти нет. Судьба продолжается и по ту сторону того, что фаустовская душа признала единственной жизнью. И бремя этой судьбы должно быть перенесено в даль вечности. Для фаустовской души Шпенглера закрыта даль вечности, историческая судьба за гранью этой жизни, этой культуры и цивилизации; он хочет до конца дней своих ограничиваться кругозором умирающей цивилизации. Он предвидит возникновение новых культур, которые тоже перейдут в цивилизацию и умрут. Но эти новые души культур ему чужды и он считает их для себя непроницаемыми. Эти новые культуры, которые, может быть, возникнут на Востоке, не будут иметь никакой внутренней связи с умирающей европейской культурой. Фауст теряет перспективу истории, исторической судьбы. Культура для него – лишь рождающаяся, расцветающий и отцветающий цветок. Фауст перестает понимать смысл и связь судьбы, потому что для него померк свет Логоса, померкло солнце христианства. И явление Шпенглера, человека исключительно одаренного, временами близкого к гениальности в некоторых своих интуициях, очень знаменательно для судьбы европейской культуры, для судьбы фаустовской души. Дальше некуда идти. После Шпенглера – уже срыв в пропасть. У Шпенглера есть большой интуитивный дар, но это – дар слепца. Как слепец, не видящий уже света, бросается он в темный океан культурно-исторического бытия. У Гегеля была еще христианская философия истории, в своем роде не менее христианская, чем философия истории Бл. Августина. Она знает единый субъект истории и смысл истории. Она вся светится отсветом христианского солнца. У Шпенглера нет уже этих отсветов. Гегель принадлежит культуре, имеющей религиозную основу, Шпенглер чувствует себя уже перешедшим в цивилизацию, утерявшую религиозную основу. Следует еще отметить, что точка зрения Шпенглера неожиданно напоминает точку зрения Н. Данилевского, развитую в его книге “Россия и Европа”. Культурно-исторические типы Данилевского очень походят на души культур Шпенглера, с той разницей, что Данилевский лишен огромного интуитивного дара Шпенглера. Вл. Соловьев критиковал Н. Данилевского с христианской точки зрения. Для Шпенглера не разрешается в истории судьба мира, поэтому для него история есть часть природы, явление природы, а не природа – часть истории, как для исторической метафизики. * * * Всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию. Цивилизация есть судьба, рок культуры. Цивилизация же кончается смертью, она есть уже начало смерти, истощение творческих сил культуры. Это – центральная мысль книги Шпенглера. “Мы цивилизованные люди, а не люди готики или рококо”. Чем отличается цивилизация от культуры? Культура – религиозна по своей основе, цивилизация – безрелигиозна. Это для Шпенглера – основное различие. Он считает себя человеком цивилизации, потому что он безрелигиозен. Культура происходит от культа, она связана с культом предков, она невозможна без священных преданий. Цивилизация есть воля к мировому могуществу, к устроению поверхности земли. Культура – национальна. Цивилизация – интернациональна. Цивилизация есть мировой город. Империализм и социализм одинаково – цивилизация, а не культура. Философия, искусство существуют лишь в культуре, в цивилизации они невозможны и ненужны. В цивилизации возможно и нужно лишь инженерное искусство. И Шпенглер делает вид, что принимает пафос инженерного искусства. Культура – органична. Цивилизация – механична. Культура основана на неравенстве, на качествах. Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она хочет обосноваться на количествах. Культура – аристократична. Цивилизация – демократична. Различие культуры и цивилизации чрезвычайно плодотворно. У Шпенглера есть очень острое чувство неотвратимого процесса победы цивилизации над культурой. Закат Западной Европы для него есть прежде всего закат старой Европейской культуры, истощение в ней творческих сил, конец искусства, философии, религии. Цивилизация еще не кончается. Цивилизация будет еще праздновать свои победы. Но после цивилизации наступит смерть для западно-европейской культурной расы. После этого культура может расцвести лишь в других расах, в других душах. Эти мысли выражены Шпенглером с изумительным блеском. Но новы ли эти мысли? Нас, русских, нельзя поразить этими мыслями. Мы давно уже знаем различие между культурой и цивилизацией. Все русские религиозные мыслители утверждали это различие. Все они ощущали некий священный ужас от гибели культуры и надвигающегося торжества цивилизации. Борьба с духом мещанства, которое так ранило Герцена и К. Леонтьева, – людей столь разных укладов и направлений, основана была на этом мотиве. Цивилизация по существу своему проникнута духовным мещанством, духовной буржуазностью. Капитализм и социализм совершенно одинаково заражены этим духом. Под враждой к Западу многих русских писателей и мыслителей скрывалась не вражда к Западной культуре, а вражда к западной цивилизации. Константин Леонтьев – один из самых проницательных русских мыслителей, любил великую культуру Запада, он любил цветущую культуру ренессанса, любил великую католическую культуру средневековья, любил дух рыцарства, любил гений Запада, любил могущественное проявление личности в этом великом культурном мире. Он ненавидел цивилизацию Запада, плод либерально-эгалитарного прогресса, угашение духа и смерть творчества в цивилизации. Он постиг уже закон перехода культуры в цивилизацию. Для него это был неотвратимый закон жизни обществ. Культура для него соответствовала тому периоду развития обществ, который он называл периодом “цветущей сложности”, цивилизация же соответствовала периоду “упростительного смешения”. Проблема Шпенглера совершенно ясно была поставлена К. Леонтьевым. Он также отрицал прогресс, исповедывал теорию круговорота, утверждал, что после сложного цветения культуры наступает закат, упадок, смерть. Процесс “либерально-эгалитарной” цивилизации есть начало смерти, разложения. Для западно-европейской культуры он считал эту смерть неотвратимой. Он видел гибель цветущей культуры на Западе. Но он хотел верить, что цветущая культура возможна еще на Востоке, в России. Под конец жизни он потерял и эту веру, он увидел, что и в России торжествует цивилизация, что и Россия идет к “упростительному смешению”. Тогда им овладела мрачная апокалиптическая настроенность. Так и Вл. Соловьев под конец потерял веру в возможность в мире религиозной культуры и ощутил жуткое чувство наступления царства антихриста. Культура имеет религиозную основу, в ней есть священная символика. Цивилизация же есть царство от мира сего. Она есть торжество “буржуазного” духа, духовной “буржуазности”. И совершенно безразлично, будет ли цивилизация капиталистической или социалистической, она одинакова – безбожная мещанская цивилизация. Ведь и Достоевский не был врагом Западной культуры. Замечательны в этом отношении мысли Версилова в “Подростке”. “Они не свободны”, – говорит Версилов, – “а мы свободны”. “Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен… Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отчеством нашим, как и Россия… 0, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес: и даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями”. Достоевский любил эти “старые камни” Западной Европы, “эти чудеса старого Божьего мира”. Но он, как и К. Леонтьев, обвиняет людей Запада в том, что они перестали чтить свои “старые камни”, отреклись от своей великой культуры и целиком отдались духу цивилизации! Достоевский ненавидел не Запад, не Западную культуру, а безрелигиозную, безбожную цивилизацию Запада. Русское восточничество, русское славянофильство было лишь прикрытой борьбой духа религиозной культуры против духа безрелигиозной цивилизации. Борьба этих двух духов, двух типов имманентна самому Западу. Это не есть борьба Востока и Запада, России и Европы. И многие западные люди чувствовали тоску, переходившую почти в агонию, от торжества безрелигиозной и уродливой цивилизации над великой и священной культурой. Таковы романтики Запада. Таковы французские католики и символисты – Барбе д'Оревильи, Верлен, Вилье де Лиль-Адан, Гюисманс, Леон Блуа. Таков Ницше с его тоской по трагической дионисической культуре. Не только русские замечательные люди, но и наиболее чуткие и тонкие западные люди с тоской ощущали, что великая и священная культура Запада погибает, умирает, что ей на смену идет чуждая им цивилизация, мировой город, безрелигиозный и интернациональный, что идет новый человек, parvenue, одержимый волей к мировому могуществу и овладению всей землей. В этом победном шествии цивилизации умирает душа Европы, душа европейской культуры. Оригинальность Шпенглера не в постановке этой темы. Эта тема была поставлена с необычайной остротой русской мыслью. Оригинальность Шпенглера в том, что он не хочет быть романтиком, не хочет тосковать по умирающей великой культуре прошлого. Он хочет жить настоящим, хочет принять пафос цивилизации. Он хочет быть гражданином мирового города цивилизации. Он проповедует цивилизаторскую волю к мировому могуществу. Он соглашается променять религию, философию, искусство на технику, на осушение болот и сооружение мостов, на изобретение машин. Своеобразие Шпенглера в том, что не было еще человека цивилизации, осушителя болот, который обладал 6ы таким сознанием, как Шпенглер, печальным сознанием неотвратимого заката старой культуры, который обладал бы такой чуткостью и таким даром проникновения в культуры прошлого. Цивилизаторское самочувствие и самосознание Шпенглера в корне противоречиво и раздвоено. В нем нет цивилизаторской волевой цельности и цивилизаторского самодовольства, нет этой веры в абсолютное превосходство своей эпохи, своего поколения над предшествующими эпохами и поколениями. Нельзя строить цивилизацию, защищать интересы цивилизации, осушать болота с таким сознанием, как у Шпенглера. Для этих дел необходима притупленность сознания, толстокожесть, необходима наивная вера в бесконечный прогресс цивилизации. Шпенглер слишком хорошо все понимает. Он не новый человек цивилизации, он, умирающий Фауст – человек старой европейской культуры. Он – романтик эпохи цивилизации. Он хочет сделать вид, что интересуется инженерным искусством, осушением болот, сооружением мирового города. В действительности он пишет замечательную книгу о закате европейской культуры и этим делает дело культуры, а не цивилизации. Он необыкновенно культурный человек, перегруженный культурой человек. Такие люди плохо строят мировой город цивилизации. Они лучше пишут книги. Фауст вряд ли может быть хорошим инженером, хорошим цивилизатором. Он умирает в тот момент, когда решает заняться осушением болот. Шпенглер не человек цивилизации, как хочет уверить себя и нас – он человек поздней, закатной культуры. И потому в книге его разлито веяние печали, чуждой человеку цивилизации. Шпенглер – германский патриот, германский националист и империалист. Это ясно выражено в его книжке: “Preussentum und Sozialismus”. – У него есть воля к мировому могуществу Германии, есть вера, что в период цивилизации, который еще остается для Запада Европы, это мировое могущество Германии осуществится. Этой волей и этой верой соединяет он себя с цивилизацией, находит для себя в ней место. Но история последних лет наносит тяжкие удары империалистическому сознанию Шпенглера. Империализм и |
|
© 2000 |
|