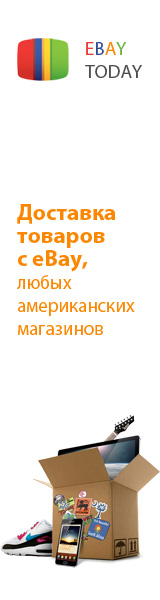|
РУБРИКИ |
Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ веков |
РЕКЛАМА |
||
|
Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ вековучащихся была среда сверстников. В постоянном общении с одноклассниками складывался характер, и он находился в зависимости от общего нравственного уровня. Например, Д. Засосову и В. Пызину очень повезло с одноклассниками: «Говоря о становлении юноши, его внутреннего мира и характера, необходимо помнить, что воспитывают не только учителя, но и среда соучеников. Надо сказать, что большинство из них усвоили прививаемые в гимназии положительные основные человеческие качества: как правило, мальчики, а потом и юноши были честны, справедливы, не трусливы, хорошие товарищи»[266]. В среде одноклассников были свои правила, этикет, законы, которым должны были подчиняться все. Например, среди одноклассников А. Никитина был такой обычай: «Говорить между товарищами ты не было принято даже в младших классах. Несмотря на то, что по семи лет приходилось проводить юношам друг с другом, всё-таки вы не изменялось на ты… В старших классах доводили вежливости до смешного. Иные не только пожимали друг другу руки, но даже кланялись, здороваясь и прощаясь»[267]. И потому особенно трудным было положение новичков, вновь прибывших учащихся. Их главное затруднение заключалось в том, что они были совершенно не знакомы с новой средой и её законами. Во многих учебных заведениях новички подвергались всевозможным унижениям, как это случилось с В. Короленко в первый день в школе: «В ближайшую перемену я не вышел, а меня вынесло на двор, точно бурным потоком. И тотчас же завертело, как щепку. Я был новичок. Это было заметно, и на меня посыпались щипки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щелкнуло, точно хлопушкой, называлось на гимназическом жаргоне «дать фаца», и некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко остриженная голова и несколько торчащие уши. Поэтому, пока я беспомощно оглядывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемета…»[268]. Но в некоторых учебных заведениях были совершенно другие правила касательно новичков, новенькие не третировались, а, наоборот, оберегались, как об этом рассказывает В. Сиони его новый товарищ: «… новичок лицо некоторым образом неприкосновенное… новичков не учат, а … они сами должны присматриваться, учиться. Подростки – то другое дело, … они уж и сами много знают, а чего не знают, то мы сами добавляем. Их не грех поучить, если сами не успели выучиться сразу»[269]. Далее ученик оказывался либо в среде, в которой не было никаких понятий о дружбе (Н. Булюбаш сетует на такие отношения в своём классе[270]), либо в дружном коллективе, либо вне всякого коллектива. Последнее происходило уже по вине самого учащегося, как это произошло, например, с С. Аксаковым: «…всего более приводили меня в отчаяние товарищи: …мальчики одних лет со мною и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части 6ыли нестерпимые шалуны и озорники; с остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что я не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, так что я не встречал ни одного сколько-нибудь печального или задумчивого мальчика, который мог бы принять участие в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим внутренним состоянием. «Что это за чудо, - думал я, - верно, у этих детей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому, ни саду в деревне», и начинал сожалеть о них. Но скоро удостоверился, что почти у всех были отцы, и матери, и семейства, а у иных и дома и сады в деревне, но только недоставало того чувства горячей привязанности к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собой разумеется, что я как нелюдим, как неженка, недотрога, как маменкин сынок, который все хнычет по маменьке,- сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей…» [271]. И всё же чаще всего коллектив в классе был очень дружным, как, например, у М. Добужинского: «Мои новые товарищи были симпатичные, умели хорошо подсказывать, передавать «шпаргалки» и делились со мной подстрочниками[272]». Некоторые мемуаристы, вспоминая свои школьные годы, видели причину такой дружбы в сплоченности против «угнетателей» - учителей, начальства, так, по крайней мере, считал Н. Щапов: «Отношения учеников между собою всё время были очень дружественными, никакой травли друг друга, расслоения на касты не было. В общем, считалось, что ученики – одна сторона, учителя – другая. Мы внутри первой должны держаться как союзники, всячески помогая друг другу против второй. Но злобных выходок против учителей я почти не помню…»[273]. О том же пишет и А. Греков: «Было дружное товарищество между учениками и жаловаться не полагалось. Все провинности отдельных лиц покрывал весь класс, и мы, помню, не раз отсиживали всем классом «без обеда», укрывая чью-нибудь проказу»[274]. Не выдавать провинившихся одноклассников был главный способ противостояния начальству: «Класс наш… отличался большим дружелюбием и согласием между собою; твердым убеждением и правилом было: никого не выдавать и ни под каким видом и ни в каком случае. Имя фискала самая позорная, которым награждался изменник или не желавший участвовать в шалости всего класса»[275]. Такое явление как фискалы существовало практически во всех учебных заведениях. Среди начальства это считалось отличным способом контроля учеников. Сами фискалы при этом пользовались всеобщей ненавистью: «… как говорится, в семье не без урода. Были среди гимназистов и подхалимы, и фискалы, и вруны. Но вся масса учащихся в нашем, например, классе относилась к таким типам нетерпимо. Это выражалось нередко и в определенных реакциях. Особенно активно боролись с фискальством. Так, если ученик фискалил, выдавал товарища, ему устраивали «темную». Такие меры применялись в младших и средних классах, в старших выдерживался бойкот в отношении таких типов: им не подавали руки, с ними не разговаривали, не принимали в компанию, пока провинившийся не попросит извинения и не покажет своим поведением, что стал настоящим товарищем. Нетерпимо относились и к жадности, зазнайству, нежеланию помочь товарищу в учебе»[276]. Отношение к фискалам могло быть и более пассивное, как, например, в Коммерческом училище, в котором учился И. Селиванов: «Воспитанники, разумеется, вообще их терпеть не могли, но тем не менее боялись их, а некоторые даже подличали перед ними. Те же, которые показывали им свое отвращение, естественно подвергались доносам более частым нежели прочие. Скажу более, директорских шпионов у нас боялись даже наши надзиратели (гувернеры), особенно которые были слабее, или лучше сказать, добрее характером; они иногда доносили о наших шалостях директору, единственно из опасения как бы он не узнал о них стороною, через своих фискалов»[277]. Начальство пыталось контролировать учеников и с помощью официальных «надзирателей»: «Перейдя в 7 класс, я был сделан старшиной, то есть надзирателем над всеми учениками гимназии, и, несмотря на это, я не помню со стороны моих товарищей ни малейшего проявления вражды или злобы…»[278]. Иногда была и похожая должность надзирателя над отдельным классом: «Старшой назначался инспектором из лучших учеников; он хранил журнал класса и обязан был, в отсутствии учителя, наблюдать за тишиною»[279]. Но нередко такие старшие принимали участие в общих шалостях класса и покрывали провинившихся. Объединяла класс вражда не только с начальством, но и с другими классами и учебными заведениями. Такую вражду описывает А. Греков, бывший учеником городского училища, в здании которого находилось «… в нижнем этаже и окружное (равное уездному) училище, где обучались под час уже великовозрастные (лет по 15-16) парни, бывшие грозой гимназистов и реалистов. Дело в том, что между учениками городского и окружного училищ с одной стороны, и реального и гимназии – с другой, шла постоянная упорная война. Это была своего рода классовая рознь, потому что в реальную гимназию попадали всё же более обеспеченные дети или дети более сознательных родителей… Поэтому вражда была и так как в нашей школе и в окружном ребята были поздоровее, то стычки обычно заканчивались поражением гимназистов»[280]. Похожее описание можно встретить и у А. Афанасьева: «В снежки мы играли так: класс выходил на класс, или несколько классов соединялись и выступали против других классов, и победители долго гнали побежденных, преследуя комками оледенелого снега; и те и другие часто возвращались в классы с подбитыми и всегда раскрасневшимися лицами. На кулачки дрались гимназисты несколько раз… с учениками уездного училища, с которыми неизвестно почему, была давняя вражда. Неприязненно смотрели гимназисты и на семинарию, и на кантонистов; но здесь до открытого боя не доходило, а кончалось перебранкою и отдельными стычками. Кантонисты дразнили гимназистов за красные воротники – красной говядиной…»[281]. Взаимоотношения товарищей зависели и от сословного положения учащихся. Так, появившиеся с новым директором во 2-ой Одесской гимназии, где учился М. Сукенников, отпрыски богатейших людей округа (М. Сукенников их называет «золотая молодежь») оказали серьёзное влияние на атмосферу, царившую здесь до этого: «Эта золотая молодежь… внесла совершенно новый дух, дотоле незнакомые веяния в нашу «демократическую» и «плебейскую» гимназическую среду. Мы все, например, приходили в гимназию пешком; только жившие далеко приезжали в гимназию по «конке», а золотая молодежь приезжала в гимназию в собственных шикарных каретах или на наемных извозчиках… Швейцар встречал их с поклоном, сам снимал с них шинели подавал им их после окончания уроков […] …всилу подражания многие из нашей среды, раньше и не помышлявшие о франтовстве, стали тянуться за золотой молодежью: нашили себе смушковые воротники на шинели, заказали новые мундиры в обтяжку и куртки без пуговиц, на крючках, фуражки с большими полями и так далее. Золотая молодежь действовала на нас и в другом отношении растлевающим образом. Мы все, в средних классах, будучи более или менее прилежными, были очень скромными юношами. Мы готовили[282] дома уроки, ходили гулять и друг к другу в гости, держались своей среды, беседовали всегда мирно и дружески, были откровенны и искренни, и почти все мы много, очень много читали. От золотой молодежи мы впервые услышали слова, значение которых нам было лишь на половину знакомо и понятно: «кафе-шантан», «кофейная» и «биллиярд»… В двух местных кафе-шантанах по вечерам дежурили помощники классных наставников, да и сторожа при входе, вообще, не впускали воспитанников среднеучебных заведений. Золотая же наша молодежь имела так называемое «партикулярное платье»: пиджачные костюмы и шляпы. Они переодевались и вполне беспрепятственно посещали кафе-шантаны, в то время как мы, их товарищи по пятому или шестому классу, еще и мечтать об этом не смели»[283] Часто у мемуаристов в рассказах о школьном товариществе можно встретить строки, производящие удручающее впечатление: «У нас на квартире по ночам мальчики 15 – 17 лет составляли складчину, покупали водку и пировали до утра. В классе они спали или, забравшись на заднюю парту, играли в карты…В стенах гимназии еще царил дух розги, которая уже оффициально была запрещена, но об этой розге ученики сохранили свежие предания и называли имена героев, которые, сорвавшись с позорной скамьи, зверски бросались на экзекуторов»[284]. Подобная же картина описана и у А. Галахова: «До прихода учителя в классе стоял стон стоном от шума, возни и драк. Слова, не допускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон»[285]. При этом А. Никитин смотрел на такое положение дел не столь пессимистично: «…полсотни мальчиков возились на свободе – пели солдатские песни, «жали масло», дрались на кулачках, рисовали порнографические изображения на досках и рассматривали порнографические картинки. Но в то же время, я решительно не могу сказать, чтобы это были нравственно испорченные мальчики. Эта была просто ребяческая удаль одиннадцати и двенадцатилетних ребят, предоставленных самим себе» [286] . Как видно, влияние, оказываемое одноклассниками друг на друга, было значительно. Класс обычно воспитывал дружеские чувства, пусть даже в борьбе с начальством. А воспитание учащиеся обыкновенно получали соответственно нравственному развитию класса, да и всего учебного заведения в целом. 5. Быт Для описания культурно-бытового облика учащихся, конечно же, необходимо сказать и о быте школьников. Тем более что быт их был особенным из-за возрастной специфики и огромного влияния на него школы. Прежде всего, школа влияла на внешний облик учащихся. 5.1. Форма Внешний облик учащихся составляла чаще всего форма, обычно военного образца и собственно полувоенного характера. Форма менялась – она зависела от общих тенденций в развитии форменной одежды в России, от правительства, учебного округа (в разных местах форма могла резко отличаться). Для описания формы николаевского времени используем «Воспоминания» Н. Златовратского: «…невероятно блестящий, но и крайне несуразный гимназический мундир николаевских времен, который мы называли «спереди кофта, а сзади фрак», с громадным, тугим, стоячим, шитым золотым позументом воротником, который держал все тело в самом неестественном положении; тем не менее он меня приводил в самое восторженное настроение»[287]. С 70-х гг. XIX века, например, носили такую форму (по уставу гимназий и прогимназий 30 июня 1871 г.): «§ 29. Одежда учеников в гимназии и прогимназии составляют полукафтан тёмно-синего сукна однобортный, не доходящий до колен, застёгивающийся на 9 посеребренных гладких, выпуклых пуговиц, с 4 такими же пуговицами сзади по концам карманных клапанов, воротник (скошенный) и обшлага прямые одного сукна с мундиром, поверху воротника нашит узкий серебряный галун, а у обшлагов, где разрез, по две малые пуговицы. Шаровары тёмно-синего сукна. Пальто серого сукна, двубортное, офицерского образца, пуговицы такие же, как на мундире; петлицы на воротнике одинакового с кафтаном сукна, с белой выпушкой и пуговицей. Шапка – одинакового с полукафтаном сукна по образцу военных кепи, с белыми выпушками вокруг тульи и верхнего края околыша. На околыше над козырьком жестяной посеребренный знак, состоящий из двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями, между коими помещены прописные заглавные буквы названия города и гимназии или прогимназии с их номером, где таковой есть, например: С.П.Б. I Г. (С.- Петербургская Первая гимназия) или Р.Г. (Ришельевская гимназия), или О. 2 Г. (Одесская Вторая гимназия), или Б.Л.П. (Брест-Литовская прогимназия). Сверх сего дозволяется носить: Башлык из верблюжьего сукна без галуна; и шинель серого сукна, по образцу военных, с воротником того же сукна, но без клапанов (петличек)»[288]. Д.Засосов и В.Пызин дают такое описание формы для XX века: «Гимназисты носили форменную одежду: синюю фуражку с белым кантом и посеребренным гербом из скрещенных листьев лавра, а между ними номер гимназии, шинель серого сукна со светлыми пуговицами и синими петлицами, черную тужурку, лакированный ремень, на котором светлая пряжка с номером гимназии, брюки черные. В торжественных случаях - мундир из синего сукна, однобортный, с серебряными галунами по воротнику. В нашей гимназии мундир имели только единицы, многие семьи были малосостоятельные. Бедным гимназистам иногда выдавались от Общества всепомоществования недостаточным ученикам деньги на покупку форменной одежды. Все обмундирование обычно покупалось на вырост, у первоклассника часто шинель волочилась по земле, из рукавов. не было видно пальцев, тужурка доходила чуть не до колен. Но мальчишки росли быстро, года через два шинель уже была до колен. В семьях, как правило, одежда переходила от старшего брата к младшему. Было принято, что родители более состоятельные передавали малоношеное ненужное обмундирование в гимназию для нуждающихся. В общем, как-то устраивались, и мальчики были все одеты по форме. Особых придирок к форме не было, требовалось, чтобы было чисто и не было дыр. Строго следили за тем, чтобы гимназисты были подстрижены, а в старших классах - со скромными прическами. Если гимназист приходил без ремня или с космами, его отправляли домой»[289]. Некоторые особые учебные заведения имели и особую форму, как, например, в Университетском Пансионе: «Форма состояла из синего мундира или сюртука с малиновым воротником и золоченым прибором, сходная с формой университетских студентов, от которой отличалась лишь тем, что у них полагались на воротнике мундира две золоченые петлицы, у нас же одна…»[290]. В других, особых областях Российской империи была и особая форма. Например, М. Добужинский, будучи школьником, перебывал в трёх гимназиях – Петербургской, Одесского учебного округа и Виленской, и получил возможность сравнить их формы: «Скоро я нарядился в гимназическую форму. Форма гимназистов Одесского округа, к которому принадлежал Кишинев, отличалась от петербургской: в Петербурге носили черные блузы и брюки, тут же ходили во всем сером (как арестанты, мне казалось). Летом же носили парусиновые рубашки и фуражки, а не белые, как в Петербурге»[291]. А в Виленской гимназии была другая форма: «Наши черные форменные рубашки с двумя серебряными пуговками на воротнике, после серых кишиневских, казались мне даже нарядными; некоторые франты (хотя быть одетым не по форме запрещалось) носили куртки без пуговиц – на манер «австрийских» – это почему-то допускалось. Появились тогда вероятно впервые и «белоподкладочники», носившие в классе наш парадный синий однобортный мундир, нарочито укороченный и, как в кавалерии, на белой шелковой подкладке, что тоже разрешалось»[292]. В Новочеркасской гимназии, где учился А. Греков, гимназические мундиры были наподобие казачьих чекменей: «В моей памяти как- то не вяжется гимназия без мундира. Эти мундиры из тёмно-синего сукна были у нас тогда обязательны к повседневной носке, стоили они всё же недёшево, и сшить их мог только портной, так что это была довольно сложная история. Как теперь соображаю, они должны были очень стеснять нас, растущих малышей. Сшитые в талию с плотной кирасообразной грудью на негнущейся холстине с поясом, они застёгивались на середине груди на крючки и со стороны придавали фигуре, конечно, стройность. Но каково было проводить в нём целые часы на уроках, делать в них же и гимнастику, в них выходить всюду из дома, в них же стоять в церкви иногда в духоте. Нет, глупее и стеснительнее этих казачьих мундирчиков вряд ли что можно было придумать для малышей. Но мы, особенно на первых порах, очень гордились ими. Глупые! Мы не понимали, что этот самый мундир накладывал на нас ярмо, печать, которое лишало нас свободы и выдавало с головой при шалости»[293]. Вообще, в Платовской гимназии гимназисты ходили «в мундирчике с галуном, в штанах с лампасами алого сукна, в фуражке из тёмно-синего сукна с алым околышем и «лаврами» - гимназическим значком»[294]. Внешний облик учащихся, установленный для них начальством, можно дополнить выдержкой из «Правил относительно соблюдения порядка и приличий учениками Новочеркасской гимназии»: 9) Вне дома ученики обязаны быть всегда в одежде установленной формы. Положенные для них чекмени должны быть застёгнуты на все крючки. В летнее время, а именно с 1-го мая по 1-е сентября, дозволяется носить парусинные блузы, белые фуражки из полотна с установленными буквами. 10) Идя в учебное заведение для учебных занятий, а равно и возвращаясь из оного, все ученики обязаны нести ранцы на спине…[295] При некоторых послаблениях начальства, особенно детям влятельных людей, их форма могла изменяться почти до неузнаваемости, как это случилось во 2-ой одесской гимназии при М. Сукенникове: «…мы все носили куртки, мундиры и шинели обыкновенного образца и шаблонного покроя, а появившаяся отныне среди нас золотая молодежь одевалась весьма изящно и шикарно. Мундиры у них были на шелковой подкладке… всегда новенькие, чистенькие, что называется с иголочки. Брюки они всегда носили узенькие, плотно охватывавшие ноги и нижние части тела, - как это принято у кавалеристов, и обязательно с штрипками, проходившими внизу, между подошвами и каблуками. Гимназические куртки у них были также хорошо и изящно сшитые, по возможности короче и обязательно без полагающихся пуговиц. Очевидно, это требовала мода. Мы, все остальные, носили… длинные блузы, с блестящими белыми пуговицами, простые кушаки и, в большинстве случаев, совсем плохо сшитые мундиры и брюки, а золотая молодежь любила щеголять чистенькой модной одеждой, умела с каким-то особенным шиком носить свою гимназическую форму, и фатовски расстегнутые куртки или мундиры, едва застегнутые на одну- две пуговицы, давали возможность видеть изящные жилетки с цепочками от часов и кучкой брелоков, белые воротнички и даже модные галстучки. Фуражки они носили с маленькими козырьками и большими полями, а на шинели уж обязательно красовался дорогой смушковый воротник…»[296] Вообще форма могла зависеть и от моды, даже моды в масштабах отдельной гимназии, но такая форма была уже неофициальная, а ношение её наказуемо. Например, так было в гимназии при лицее кн. Безбородко в Нежине: «Кто-то из гимназистов вздумал носить вместо форменной фуражки, войлочную шляпу – так называемый «бриль»… Другим гимназистам показалось это чем-то демократическим, и вот началась мода на брили. По выходе из классов, многие гимназисты появлялись в городе в этих нелепых шляпах. Их преследовало начальство и сажало в карцер»[297]. Но случалось и так, что некоторые запрещаемые, неофициальные элементы форменной одежды постепенно узаконивались: «Когда нам дали новую форму – вместо безобразных чёрных пиджаков с синими петлицами, - мундиры с серебряным галуном и с светлыми пуговицами – некоторые стали щеголять превосходно сшитой формой, подбивали полы белым атласом, нося серую шинель с багровою шалью – и вместо форменных кепи синие фуражки с белыми кантами и значком – за что даже сиживали в карцере. В конце концов, фуражкой было оффициально заменено кепи…»[298]. И всё же для школы форменная одежда была настолько характерна, что её учащегося невозможно себе представить без формы. При этом форма помогала контролю над учащимися, она выдавала их (значок на фуражке показывал, из какой именно гимназии ученик) и, по разумению начальства, дисциплинировала учащихся. 5.2. Распорядок дня Продолжая описание быта учащихся, нужно отметить, что быт школьников зависел, прежде всего, от таких вещей, как распорядок дня. Пожалуй, только у учащихся день был настолько нормирован. Они думали, работали и отдыхали строго по часам и минутам. Учебный день делился на уроки и перерывы между ними – перемены, были и большие перемены. Длительность их в разных учебных заведениях и в различные периоды часто значительно отличалась. Но обычно учеба начиналась в 9 часов, как в начальной школе (о ней пишут Д.Засосов и В.Пызин: «Приходить надо было к 9 часам»[299]), так и в средней: «Явиться надо без четверти 9. В большой зал из классов приводят шеренги учеников, становятся по стенам зала…. Ученик читает «Отче наш»… Потом ученик читает молитву «перед учением» и с 9 часов начинаются в классе уроки…»[300]. Что обычно школьники приходили раньше девяти, подтверждает и А. Греков: «Раздевшись в шинельной, собираемся сперва в гимназическом зале, откуда в 8.30, построившись в пары, расходимся по классам. В классе нужно поскорее заткнуть кое-какие прорехи в знаниях. Списываешь, подзубриваешь наскоро, с замиранием сердца ждёшь начала»[301]. А дальше уже шли различия: отличались продолжительность и количество уроков, длительность перемен, время окончания. К началу XX века они более или менее установились и стали примерно такими, как их описывает Н. Щапов: «С осени составлено жёсткое расписание уроков на весь год, отпечатано, роздано по рукам. В день 6 уроков с 9 до 4 часов дня. Большой перерыв с 12 до часу дня, полчаса на завтрак, полчаса на прогулку для живущих воспитанников. По субботам только три урока, а с 12 часов – репетиции для неуспевающих учеников; учителя назначают на них двоечников: «в субботку на работку»…»[302]. В гимназиях, где учились Д. Засосов и В. Пызин, был несколько другой, но похожий распорядок дня: «Занятия начинались в 9 часов. Урок продолжался 50 минут. Между уроками перемены: первая - 5 минут, вторая - 10, третья - 30, четвертая - 5 минут. Начиная с пятого класса, каждый день было 5 уроков… Ровно в 9 раздавался звонок, к этому времени все гимназисты были уже в классах. В классы шли учителя с журналами. Все вставали. Перед первым уроком дежурный читал молитву. Через 50 минут раздавался звонок на первую перемену. Все выходили в залы, в классе дежурный открывал окно. Во вторую перемену младшие классы спускались в гимнастический зал, где были приготовлены столы, а на них кружки с горячим сладким чаем… В 12 часов, в большую перемену, чай пили старшие классы. …После четвертого урока была последняя перемена в 5 минут. В большую перемену некоторые выбегали во дворик поиграть в мяч или снежки. Близко живущие бегали завтракать домой. Наконец кончались занятия, по классам читались молитвы. Младшие классы в парах под надзором педагога спускались в шинельную. Но на последнем, крутом марше лестницы пары расстраивались, все неслись вниз, кто побойчее, сидя на ранцах, съезжали по ступенькам»[303]. В начальной школе занятий было поменьше: «Около 11 перерыв на полчаса, после чего занимались еще часа два»[304], по уставу 1828 года в уездных училищах «учение бывает ежедневно, за исключением воскресных и других положенных в табели праздничных дней»[305]. Кроме того: «Всякий урок должен продолжаться полтора часа, и на каждый день назначается по четыре урока, кроме среды и субботы, в сии дни после обеда учения не бывает. По субботам после обеденного времени желающие могут быть обучаемы церковному пению по нотам»[306]. Но ещё более нормированный порядок дня имели, конечно же, пансионеры – учащиеся, живущие в пансионах, на квартирах учителей, в общем, при учебных заведениях. Так, учившийся в Университетском благородном пансионе М. Дмитриев описывает царивший там порядок таким образом: «Вставали мы по звонку в шестом часу; умывшись и одевшись, в шесть часов мы шли в репетиции, учили и повторяли уроки. В 7 часов по звонку шли, комната за комнатой, всегда в одном определенном порядке, в столовую пить чай с тремя сухарями, а по середам и пятницам - сбитень с половиной небольшого белого хлеба. При начале читалась одним из полуотличных утренняя молитва, после которой все садились. Во время же чая один из отличных по очереди читал на налое, стоящем посредине, нравоучительную книгу, изданную при Новикове, но которой название я не помню. В девять часов шли в классы, которые продолжались до двенадцати. Обедали мы в 12 часов все в одной зале, где было, кажется, девять или более столов, по числу комнат. Для отличных был круглый стол посредине. Каждая комната обедала за особым столом под председательством своего надзирателя, который разливал горячее. За обедом нам не позволяли разговаривать, а для предупреждения разговоров велено было всякому ходить за стол с книгой и читать между кушаньями… После обеда, побегавши до двух часов, в два часа мы опять шли в классы, до шести. В шесть часов, вместо чаю, раздавали нам куски белого хлеба. В семь мы шли опять в репетиции, потом в 9-м часу ужинали и слушали вечернюю молитву, а в десятом ложились спать» [307]. Похожий, но немного отличный порядок существовал в Московском коммерческом училище и пансионе при нём: «Ровно в 6 часов раздавался обыкновенно звон небольшого колокола…; звук этого колокола был слышен во всем доме, и он давал нам сигнал обо всем: о вставаньи, начале и конце каждого класса, об обеде, ужине, чае и проч… Итак, ровно в 6 часов… все вставали; старшие воспитанники-надзиратели будили своих подчиненных; затем все отправлялись в общую умывальную… После умыванья, то есть около половины седьмого, приходил надзиратель, и мы поклассно собирались на молитву, где один воспитанник вслух, очень скоро, а иногда с большими пропусками читал молитвы… После молитвы ученики попарно отправлялись в столовую пить чай. Впереди каждого класса шел ученик, занимавший должность спального надзирателя, за ним шли воспитанники первого класса, меньшие ростом впереди; потом опять спальный надзиратель и воспитанники второго класса и так далее. Тот же порядок был соблюдаем, когда мы ходили обедать, ужинать и вечером спать. Завтрак наш состоял из порядочной кружки довольно скверного чаю и половины довольно большого ситника. Очень не редко, осенью и весной, чай отзывался навозом, а в ситниках иногда попадались запеченные мухи и тараканы… После чаю мы тотчас отправлялись в классы; до 8 часов здесь иной приготовлял уроки, другой бил баклуши… В 10 часов бил опять звонок, и давалось четверть часа отдыху… В 12 часов снова бил благодетельных звонок; на этот раз он призывал в столовую; мы строились в пары и отправлялись обедать… После молитвы, на обоих концах… столов, являлись тотчас дядьки с огромными мисками, и начиналась работа; только и слышен был стук посуды… По окончании обеда, по звонку надзирателя все вставали из-за скамеек и прежним порядком возвращались в классы. Здесь до 3 часов давался отдых; затем, снова начинался класс и продолжался до 5 часов, в том же точно порядке, что и утром. В 5 часов, по окончании классов, мы отправлялись в столовую прежним порядком, получали по полуситнику на брата. Это брало времени не более четверти часа. Затем, снова класс до 7 часов; в 7 часов ужин, состоявший из двух блюд: щей или какой похлебки, и неизбежной, но всегда приятной для нас каши; после ужина опять путешествие в классы; и опять отдых, такой же как и прежний; и наконец в 9 часов отправлялись спать» [308]. Особенно ненавистным временем для детей было время вставания по утрам, ведь вставали-то дети очень рано – в 6 часов утра. Об этом часе пишет в своих воспоминаниях С. Аксаков: «…как все показалось мне противно! Вставанье по звонку, задолго до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах (тут С. Аксаков отмечает: «В спальнях держали двенадцать градусов тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всех казенных учебных заведениях и что, по- моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее четырнадцати градусов»), отчего вставать еще неприятнее бедному дитяти, кое-как согревшемуся под байковым одеялом; общественное умыванье из медных рукомойников, около которых всегда бывает ссора и драка; ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и т. д.;. завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водою и булки, а в постные дни - из стакана сбитня с булкой; в таком же роде обед из трех блюд и ужин из двух... Чем все это должно было казаться изнеженному, избалованному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния?»[309]. А. Афанасьев вспоминает о вечернем времени на квартире у учителя: «…для воспитанников своих отводил 2-3 комнаты, где они жили и приготовляли свои уроки все вместе; кровати стояли одна подле другой, в комнатах теснота и вечный содом, особенно когда начинали учить свои уроки, что всегда делалось вслух, громко. Один заглушал другого, и каждый мешал всем другим… Надзора за ученьем никакого не было; никто нам не объяснял уроков; мы зубрили их, выкрикивая разные фразы из учебных книг и тетрадок. Вся выгода житья в доме учителя ограничивалась только тем, что наблюдали за нашим поведением, то есть не позволяли воспитанникам никуда без спросу ходить, смотрели чтобы не дрались, не делали шалостей и были бы послушны; но и это исполнялось слишком плохо… Сколько шалостей совершалось ежедневно и сколько непозволительных вещей пропускалось сквозь пальцы! Стесненные в одной комнате мы естественно, для развлечения затевали шалости и все участвовали в них»[310]. Как видно, даже в пансионах в распорядке дня могли существовать различия, особенно в специальных пансионах, вроде Немецкого Пансиона, распорядок дня которого очень подробно описывает А. Фет: «Вечером, для старших классов в 10 часов, по приглашению дежурного надзирателя, все становились около своих мест и, сложивши руки с переплетенными пальцами, на минуту преклоняли головы, и затем каждый, сменив одежду на халат, а сапоги на туфли, клал платье на свое место на стол и ставил сапоги под лавку; затем весь класс с величайшей поспешностью сбегал три этажа по лестнице и, пробежав через нетопленые сени, вступал в другую половину здания, занимаемого… темными дортуарами. В дортуарах вдоль по обеим стенам стояли шкафы; дверка такого шкафа скрывала складную кровать, которую стоило опустить, чтобы она при помощи отворенной дверки представила род отдельной корабельной каюты. Всякие разговоры в постели строго воспрещались... В 6 часов утра дежурный надзиратель безмолвно проходил вдоль кроватей, стуча рукою по громозвучным их дверцам, и тогда - о горе! - приходилось из нагретой постели, накинув халат, бежать по холодным сеням в свою палату, где неуклюжий на вид чухонец Мерт успевал уже, дурно ли хорошо ли, перечистить платье и сапоги. Равным образом толстые, белокурые и в кружок остриженные чухонки в отсутствие учеников успевали вынести подставную в умывальнике лохань с грязной водой и наполнить деревянный над ним резервуар свежею. По окончании туалета такие же корпулентные чухонки приносили на одном подносе кружки с молоком, а на другом ломти домашнего ситного хлеба; затем каждый старался окончить приготовление к предстоящим урокам. Ровно в 8 часов внизу в коридоре раздавался громогласный звонок, по которому все устремлялись в большую залу на утреннюю молитву, продолжавшуюся минут пять и состоявшую из лютеранских стихов, пропетых общим хором под мастерскую игру на органе… Затем до 11-ти час. следовали три утренних урока, по окончании которых до половины двенадцатого на завтрак в палаты приносились такие же ломти ситного хлеба, весьма тонко и прозрачно намазанные маслом. С половины двенадцатого до половины первого шел четвертый утренний урок для старших классов; а в половине первого снова по звонку все бежало в общую залу к двойному ряду столов, где всякий за обедом занимал свое обычное место […] В час вставали из-за стола и, невзирая ни на какую погоду, отправлялись под надзором дежурного учителя гулять. Учителями этими являлись через день иностранцы, т. е. в один день француз, а в другой русский, и соответственно этому на прогулках было обязательно говорить не иначе как по-французски или по-русски. Прогулка длилась час, в два часа все садились за приготовительный получасовой урок, а от половины третьего до половины пятого шли два послеобеденных урока в младших классах; а в двух старших присоединялся от половины пятого до половины шестого третий послеобеденный ежедневный латинский урок независимо от утреннего. Затем у старших на вечернее молоко оставалось только полчаса времени до шести, а в шесть часов до восьми все садились снова приготовлять уроки. В 8 часов по звонку все бежали к ужину, состоявшему, как и обед, из двух блюд, но только с заменою супа размазней и жареной говядины - вареною с таким же картофелем. С половины девятого до половины десятого полагался отдых, и затем раздевание и бегство в дортуар»[311]. Также регламентирован был порядок и в простом рязанском пансионе: «Мы вставали, кроме дней праздничных, всегда без четверти 5 часов; в четверть часа умывались из огромного умывальника, куда входило не одно ведро воды, и к 5-ти часам были уже в огромной комнате с хорами на молитве, которую читали поочередно. Было нас человек 100; и готовили мы уроки до 7-ми часов в соседней, тоже огромной комнате. В 7 часов вся наша ватага спускалась вниз в большую столовую к стакану чая с большою булкою. С 9-ти часов начинались классы, а к часу все выстраивались, и главный надзиратель Карл Иванович Босс осматривал нас; если у кого-то запачканы руки, тот получал по ним удар и выгонялся мыть их… От 2-х до 4-х опять классы, затем после чаю, уже без хлеба, садились до 8-ми часов готовить уроки, в 8 ужин, а в 9 часов уже все спало»[312]. У учащихся было особенно подчиненное положение, ни за чьим поведением не было такого наблюдения, как за их дисциплиной. Для организации могущей оказаться неуправляемой массы школьников была необходима строжайшая регламентация их учебного времени. Другое дело, что не всегда сами учащиеся добровольно подчинялись этой регламентации, но всё равно она не переставала влиять на их быт и образ жизни. Теперь необходимо рассмотреть составные части обычного дня учащихся. Прежде всего, это была учеба. 5.3. Учеба Итак, для описания быта учащихся начальной и средней школы необходимо прежде всего коснуться собственно учёбы. Она естественным образом во многом влияла на образованность, формирование ума и образа мыслей, если, конечно, учителя были добросовестны и ставили перед собой такую задачу. Уроки были тем, что занимало почти всё время и мысли учащихся на протяжении нескольких лет. Но происходило это по-разному. В начальных учебных заведениях всё начиналось не так сложно: «В первый же день меня поставили к так называемому форшту с буквами, довольно большого размера, наклеенными на папке, и я начинал выкрикивать вместе с другими стоящими тут мальчиками: а, бе, ве и т.д. первую строчку азбуки – шесть букв […] В первом приходском классе учение наше ограничивалось только букварём, начатками православного учения и писанием палок»[313]. Для описания уроков в средних учебных заведениях можно воспользоваться лаконичными строками из воспоминаний Н. Щапова: «Урок. Входит учитель. Все встают. Он объясняет, спрашивает с места, или у кафедры, или у доски. Ставит балл от 1 до 5. Задаёт урок на дом […] На дом нам задали довольно много уроков, и письменных, и для пересказа, и для заучивания наизусть. Было много переводов, изложений, сочинений… Работы и ответы оценивались баллами, из них выводились годовые»[314]. Но не во всех учебных заведениях всё было так же просто. Во многих школах учителя значительно упрощали себе работу: «…урок продолжался полтора часа; это довольно долгое время учителя наполняли тем, что спрашивали у учеников уроки; но объяснять нам уроки сами… и не думали; и как в низших классах было много учеников, то учителя поручили лучшим из них спрашивать по нескольку других воспитанников каждому. Эти ученики назывались аудиторами. Они выслушивали у назначенных им учеников уроки и ставили им отметки, которые иногда поверял учитель»[315]. Такое отношение учителей к своей работе естественно влияло и на занятия учеников: «… царила распущенность и, по-видимому, ни одному учителю не было дела до того, учится ученик или нет, можно было почти ничего не знать и все-таки получить три. Во время уроков многие читали посторонние книжки, и равнодушие учителя отражалось на учениках. Пансионеры… отличались особой неряшливостью. Но самый ужасный класс был – рисование: ученики разбивались на группы, играли в карты или в перья, или в пуговицы… учителю подавали неприличные рисунки» [316]. Кроме обучения в классах были, как уже отмечалось выше, домашние задания: «Если говорить о самом учении, надо признаться, что гимназисты были загружены. Кроме занятий в гимназии в течение 4 - 5 часов задавалось много на дом. Чтобы хорошо успевать, надо было учить уроки. На это уходило около трех часов, а то и больше. На воскресенье и другие праздники тоже задавались уроки»[317]. Но не везде домашние задания выполнялись в ущерб свободному времени. Достаточно частой практикой было их невыполнение, как это описывает А. Греков: «В классе было всего несколько человек, которые считали себя обязанными добросовестно готовиться к каждому уроку. Остальные же, не раскрыв дома книги, вполне уповали на то, что Алёшка Греков, Митька Крылов… конечно, всё сделают и в перемену объяснят, растолкуют»[318]. На протяжении практически всего XIX века понятия о педагогике в школах практически не было. Изучение предмета часто ограничивалось ненавидимым учащимися и довольно бесполезным дословным заучиванием текста из учебника. Учащимися это называлось зубрежкой или долбежкой, долбней («долбня была ужасная: всё заучивалось слово в слово, говорилось без запинки, без знаков препинания, нельзя было пропустить одного слова, т.к. тогда получалась бессмыслица»[319]). Вообще бывшие учащиеся часто пишут, что «учение наизусть, слово в слово, буква в букву, было преобладающим в низших классах гимназии; в высшей более или менее от того освобождались; но я знаю, что и в низших оно не приносило ни малейшей пользы»[320]. На то же сетует и А. Греков: «… Простой по существу латинский язык превращался в муку египетскую. Мы зубрили склонения, спряжения, правила и исключения и не могли, не умели применить их к делу. В результате, когда дело доходило до переводов с русского на латинский, получалось нечто невообразимое. Мои тетрадки латинских extemporale после просмотра учителя превращались в красное море […] Греческий, так же как и латинский, был всё теми же несносными вокабулами и только. Красоты этого языка… мы не могли понять, а помнили лишь правила и исключения. …Мы зубрили греческий язык, ломая свои мозги над склонениями… В результате мы были «паиньки»: мы не знали ничего в жизни и не задумывались над окружающим, а эти думы, как хорошо знало царское правительство, до добра не доводили. Значит – цель учения была достигнута, конечно, с точки зрения начальства»[321]. Но в действительно хороших учебных заведениях с добросовестными учителями и более или менее хорошей постановкой обучения дело шло, конечно же, иначе. Например, так было в Университетском пансионе, судя по описанию Д. Милютина: «…преобладающей стороной наших занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времён направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашней русской литературой…»[322]. Естественно, что выпускники таких учебных заведений выходили людьми, в общем, более образованными. Существовали и другие формы обучения в школе. Кроме экстернов, обучавшихся дома и сдававших в учебных заведениях экзамены, были ещё и вольнослушатели. Таким вольнослушателем в Тифлисской гимназии был С.Ю. Витте: «…в этой гимназии были интерны (ученики, которые там жили), экстерны и сравнительно меньшее количество вольнослушателей, которые допускались только в особых случаях. И вот меня и брата, ввиду того положения, которое |
|
© 2000 |
|