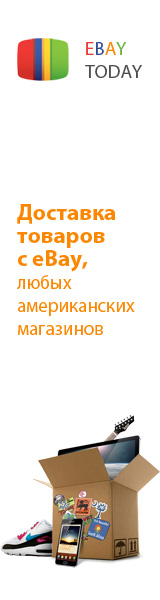|
РУБРИКИ |
Бургундия в поисках самоидентификации (1363-1477 гг.) |
РЕКЛАМА |
||
|
Бургундия в поисках самоидентификации (1363-1477 гг.)принимать в расчет в той же мере, что и демографическую или финансовую статистику. Нужно отметить, что рыцарский идеал, каким бы наигранным и устаревшим ни казался он к тому времени, все еще продолжал оказывать влияние на культурное и политическое развитие позднего Средневековья – и к тому же более сильное, чем обычно предполагается. При всем своем несовершенстве рыцарский идеал предлагал обществу стройную этическую концепцию, в которую довольно органично вписывались представления практически всего средневекового общества. Таким образом, нет никаких оснований полагать, что выбор бургундскими герцогами рыцарской идеи в качестве основного вектора государственной идеологии вносил диссонанс в общество и нарушал стабильность Бургундского государства. Двор: этика, мода и искусство. Максимально культурная политика бургундских герцогов получила свое воплощение в придворной среде. Двор – та сфера, где эстетика форм жизненного уклада могла развиться наиболее полно. Бургундский двор с конца XIV и особенно в XV вв. занял исключительное место среди дворов могущественных европейских государей. Современники называли его сокровищем или жемчужиной Запада,[255] будучи поражены его политическими амбициями, культом института рыцарства – одного из наиболее ярких знаков уходящего средневекового мира, роскошью придворной жизни, причудливостью и волшебством праздника. Необходимо учесть, что признание современниками культурной супрематии бургундского двора происходило невзирая на то, что он являлся политическим центром только герцогства, существующего в рамках французской монархии и не имевшего юридического статуса самостоятельного государства. Двор стал еще одним инструментом герцогов в кропотливой деятельности по созданию государства. Чинная роскошь бургундского двора, так восхваляемая современниками, раскрывается в полной мере, прежде всего, в сравнении с неразберихой, которая обычно господствовала при французском дворе, хотя и гораздо более старом. Известно, какое значение придавали бургундские герцоги всему, что касалось придворной роскоши и великолепия.[256] Но чем являлся двор для герцогов? Только лишь способом еще раз выделится или нечто большим? Двор занимал в рыцарской культуре очень высокое значение. После воинской славы двор, говорит Шатлен, первое, к чему следует относиться с особым вниманием; содержать его в образцовом порядке и состоянии –важнейшее дело.[257] Серьезное отношение к двору характерно не только для бургундских герцогов, это черта свойственна всем государям позднего Средневековья. Оливье де Ла Марш, церемониймейстер Карла Смелого, по просьбе короля Англии Эдуарда IV написал трактат об устройстве двора бургундских герцогов[258], с тем, чтобы предложить королю образец церемониала и придворного этикета в качестве примера для подражания. Изящная и утонченная придворная жизнь Бургундии была предметом зависти других монархов. Но нас больше интересует культурное влияние бургундского двора. Двор, с его развитыми и хорошо поставленными культурными традициями, имеет важное значение для процесса складывания государства. Именно двор выступал в качестве объединительного центра в условиях, когда еще отсутствовали общегосударственные органы власти.[259] Двор был притяжением всех активных сил государства, он культурно объединял различные земли и задавал общегосударственные культурные образцы. Государь в придворной культурной традиции играл свою роль в хорошо поставленном спектакле к вящей славе государства. Даже Карл Смелый, с его стремлением к насаждению порядка, обязан был играть свою роль. Старинную иллюзию относительно того, что государь самолично выслушивает и тут же разрешает жалобы и прощения подданных, он облек в пышную великолепную форму. Два раза в неделю – по пятницам и понедельникам, после полуденной трапезы герцог приступал к публичной аудиенции, и каждый мог приблизится к нему и вручить то или иное прошение. Власть монарха средневековья обязательно публична, в данном случае осуществляется двусторонняя связь государя и подданных. Ла Марш подробно описывает церемонию, возможно, что постановщиком был также он. Правосудие вершили герцог и члены Совета, то есть принцы Бургундского дома, канцлер, главный метрдотель, коннетабль, знатные пенсионарии, послы, шевалье ордена Золотого Руна. В присутствии герцога заседание обставлялось с большой торжественностью и роскошью, которые являлись предметом особой заботы бургундского двора, руководствующегося принципом – «власть должна быть красивой».[260] Зал заседания украшали коврами и гербами бургундского дома, которые как гербы принцев крови дома Валуа, несли изображение лилий. Соблюдался жесткий порядок расположения скамей вокруг герцогского трона, а также места расположения в зале членов Совета. Тщательно размещенные соответственно занимаемому ими рангу, восседали они по обе стороны от прохода, который вел к герцогскому высокому трону. Рядом с ним находились два мэтра расследования и два секретаря, как подчеркивает Ла Марш, на коленях,[261] позади герцога располагались его пажи и оруженосцы. За балюстрадой, окружавшей зал, стояли придворные более низкого ранга. У входа в зал, напротив герцога, с жезлами в руках находились пятнадцать человек почетной охраны. Это была, сообщает Шатлен, по своему виду «вещь величественная и полна славы».[262] И добавляет, что подобного ему не доводилось видеть ни при одном двое. Можно представить себе впечатление бюргера, подававшего прошение, от этой блестящей церемонии. Основной смысл судебного заседания в присутствии герцога Ла Марш видит в возможности выслушать и подготовить решение всех просьб, обращенных к герцогу, особенно просьб со стороны «бедных и малых, которые могли бы пожаловаться на богатых и великих»[263], голос которых в ином случае был не слышен. Но Шатлен испытывает сильные сомнения относительно добрых плодов подобного судопроизводства.[264] Действительно, задачи данного театрализованного представления в другом. Публичная власть предстает во всем своем великолепии. Герцог путем культурного воздействия старался поднять авторитет своей власти и одинаково упрочить ее во всех землях Бургундской державы. По мнению Карла Смелого, развлечения также должны были быть облачены в пышные, великолепные формы. Шатлен увидел герцога таким: «Все помыслы свои и поведение свое часть дня уделяя смыслу, занятия свои перемежая смехом и играми, упивался он красноречием, увещевая придворных призывами к добродетели, подобно оратору. Посему и не раз видели его восседающим на своем троне с высокою спинкой, и его придворные перед ним, он же приводил им свои разъяснения, судя по времени и обстоятельствам. И был он всегда, как подобает владыке и господину над всеми ними, одеянием богаче и пышнее всех прочих». Это сознательное искусство жизни, хотя и принимающее застывшие и наивные формы, собственно говоря, выглядит как вполне ренессансное. Называемое Шатленом «высоким великоюбием в сердцах, дабы зримым и явленным быть в вещах особенных»,[265] оно выступает как характерное свойство ренессансного человека. Карл Смелый представлял собой тип монарха, практически идеального по средневековым канонам, но вместе с тем он проявлял качества присущие человеку нового времени. Придворная этика не замыкалась в себе, монарх постоянно должен был общаться с подданными, проявлять отеческую заботу о них, как сказали бы сейчас, поддерживать имидж. Естественно, манера общения требовала изменения в соответствии с задачей. Бургундским герцогам и здесь удается найти нужный тон. Хотя механизм управления к тому времени принимает довольно сложные формы, проекция власти в народном сознании образует неизменные и простые конструкции. Политические представления свойственны народным песням и рыцарскому роману. Монархов сводят к определенному числу типов, в большем или меньшем соответствии с тем или иным образцом из рыцарских преданий или песен: благородный и справедливый государь; государь, введенный в заблуждение дурными советами; государь, мститель за честь своего рода; государь, попавший в несчастье и поддерживаемый преданностью своих подданных.[266] Таким образом, для народа политические вопросы упрощаются и сводятся к различным эпизодам из сказок. Филипп Добрый прекрасно сознавал, какого рода язык был доступен народу. Во время празднеств в Гааге в 1456 г. он с целью произвести впечатление на голландцев, которые иначе могли подумать, что ему не хватает средств, чтобы вступить во владение Утрехтским епископством, велел выставить в покоях замка на всеобщее обозрение посуду стоимостью в тридцать тысяч марок серебром. Помимо этого, из Лилля было доставлено два сундучка, в которых находилось двести тысяч золотых крон.[267] Было разрешено попробовать их поднять, многие пробовали, но безуспешно. Данный пример доказывает, что когда было необходимо, изысканные и куртуазные герцоги находили убедительный способ совместить демонстрацию размеров казны с ярмарочным балаганом. Не здесь ли кроется секрет вызывающей бургундской роскоши. Отношения государя и подданных также носили выражение взаимной преданности, происходящей, по-видимому, из отношений сеньора и вассала. Юный Карл Смелый, тогда еще граф Шароле, узнает, что герцог, его отец, отобрал у него все его доходы и бенефиции. Тогда граф призывает к себе своих слуг, вплоть до последнего поваренка, и в проникновенной речи делится с ними постигшим его несчастьем, высказывая заботу о благополучии всей своей челяди. Пусть те, кто располагает средствами к жизни, остаются при нем, ожидая возврата расположения; те же, кто беден, отныне свободны: пусть уходят, но узнав, что фортуна сменила гнев на милость, пусть возвращаются, места их будут не заняты.[268] Приведенные случаи дают ответ на вопрос, почему рыцарский идеал отвечал интересом не только аристократии, но и пользовался не меньшей популярностью у неблагородных сословий. Как прекрасный жизненный идеал, рыцарская идея выступает как нечто особенное. Но рыцарская идея стремится быть и эстетическим идеалом: средневековое мышление способно отвести почетное место только такому жизненному идеалу, который наделен благочестием и добродетелью. Бургундским герцогам удалось добиться определенных результатов, государь выступает как главная ниточка, связывающая различные земли Бургундского государства. Именно герцог выступает централизующим элементом, и поэтому не было преувеличением сообщение Шатлена, что в Брюгге, где скончался Филипп Добрый, горестно было слышать, как весь народ стенал и плакал.[269] Одним из положений рыцарской этики является куртуазность. И, естественно, что бургундские герцоги, как самые блестящие представители рыцарства, должны были и на этом поприще выглядеть идеально. Одним из непременных условий куртуазности является проявление уважения к старшим, в том числе по рангу и знатности. Бургундские герцоги в желании следовать идеалу зачастую впадали в крайность. Куртуазный Шатлен заявляет: «Кто унижается перед старшим, тот возвышает и умножает собственную честь, и посему добрые его достоинства преизобильно сияют на его лике».[270] Соревнование в учтивости было до чрезвычайной степени развито в придворном обиходе. Каждый счел бы для себя невыносимым позором не предоставить старшему по рангу место, которое ему подобало. Бургундские герцоги скурпулезно отдают первенство, естественно только в этикете, своим королевским родственникам во Франции. Иоанн Бесстрашный постоянно подчеркивал почести, которые он оказывает своей невестке Мишели Французской; несмотря на то, что ее положение не давало для этого достаточных оснований, он называет ее Мадам,[271] неизменно преклоняет перед ней колени, склоняется до земли и старается во всем ей услужить, пусть даже она и пробует от этого отказаться.[272] Когда Филипп Добрый узнает, что дофин бежит в Брабант из-за ссоры с отцом, он прерывает осаду Девентера[273] и спешит в Брюссель, чтобы лично приветствовать своего высокого гостя. По мере того, как близится эта встреча, между ними начинается подлинное состязание в том, кто первым из них окажет почести другому. Филипп Добрый в страхе из-за того, что дофин скачет ему навстречу: он мчится во весь опор и шлет одного гонца за другим, умоляя его подождать, оставаясь там, где он находится. Если же принц поскачет ему навстречу, то он клянется тотчас же возвратиться обратно и отправиться так далеко, что дофин нигде не сможет его отыскать, - так как такой поступок будет для герцога стыдом и позором, которым он навечно покроет себя перед всем светом. Со смиренным отвержением придворного этикета герцог верхом въезжает в Брюссель, быстро спешивается и спешит внутрь. И тут он видит дофина, который, сопровождаемый герцогиней, покинул отведенные ему покои и приближается к нему, распростев объятья. Тотчас же старый герцог обнажил голову, пал на колени, и так поспешил далее. Герцогиня же удерживает дофина, чтобы он не сделал ни шагу навстречу. Безрезультатно пытается дофин справится с герцогом, прилагая напрасные усилия, чтобы заставить его подняться с колен. Оба рыдают от волнения, пишет Шатлен, а с ним все, кто при этом присутствует.[274] Непроизвольные знаки душевной симпатии на самом деле тщательно формализированы. Граф Шароле, будущий Карл Смелый, упорно отказывается воспользоваться для умывания одной и той же чашей, что и Маргарита Английская.[275] Именитые особы целый день только и говорят об этом; эпизод доводят до герцога, который предоставляет двум советникам обсудить все «за» и «против».[276] Феодальное чувство чести все еще настолько живо, что подобные вещи почитались действительно важными, прекрасными и возвышенными. Даже при совершении казни строго принимается во внимание честь, которую следует воздавать рангу и званию: эшафот, воздвигнутый для коннетабля Сен-Поля, украшен богатым ковром, на котором вытканы лилии; подушечка, которую ему подкладывают под колени, и повязка, которой ему завязывают глаза, из алого бархата, а палач еще ни разу не казнил осужденного – впрочем, это уже сомнительная привилегия.[277] Знаки высокого достоинства осужденных сопровождали их во время скорбного шествия. Отправляемый на казнь, Жан Монегю, королевский мажордом, предмет ненависти Иоанна Бесстрашного, восседает высоко в повозке, которая сопровождается двумя трубачами. Он облачен в пышное платье, соответствующее его положению: капюшон, упланд, наполовину белые, наполовину красные панталоны и башмаки с золотыми шпорами – на этих шпорах его обезглавленное тело и остается висеть на виселице.[278] Вряд ли можно объяснить такое поведение только лицемерием. Здесь можно увидеть и уважение к противнику, смешанное с ненавистью, и признание его благородства и многое другое. Возможно, и не стоит настаивать на утверждении, что нравственные основания еще ощущались в XV в., но что бесспорно, так это ощущение эстетической ценности, которая занимает промежуточное положение между искренними эмоциями – и сухими формулами этикета. Весь этот феномен в целом Й. Хейзинга со свойственной ему художественностью называет «желанием прекрасной жизни»[279]. Несомненно, что подобное всеохватывающее приукрашивание жизни, прежде всего, получает распространение при дворе, где для этого можно было найти и место, и время. Но не стоит думать, что неблагородные слои общества не испытывают тяги к прекрасным идеалам жизни. Говоря об особенностях бургундского двора, невозможно не сказать и о моде. С 1431 по 1477 гг. Бургундия становится образцом и законодательницей придворной моды в Европе.[280] И вновь широкая натура герцогов проявляет свою силу: костюмы пышные и отличаются вызывающей роскошью и блеском – под стать своим владельцам. Герцог Карл Смелый тратил на гардероб 800 тысяч ливров,[281] цена небольшой армии. На портрете Филиппа Доброго дан великолепный образец моды того времени. Герцог облачен в черный бархатный камзол с обильной золотой вышивкой. На шее массивная золотая цепь со звеньями в виде латинской буквы S – символом ордена Золотого Руна. Пальцы рук украшают многочисленные перстни с крупными драгоценными камнями. На герцоге горностаевая накидка, как символ фландрского графа. Мягкий берет из черного бархата подбит соболиным мехом.[282] В целом костюм герцога производит впечатление своей пышной и несколько мрачной роскошью. В сочетании с пронзительным взглядом герцог должен был производить сильное впечатление на современников. Портрет дает представление о могущественном монархе, полным достоинства и силы. Другие государи старались подражать Бургундским герцогам. В частности Людовик, герцог Орлеанский, потратил 20000 ливров на жемчуг, чтобы вышить на камзоле слова непристойной песенки.[283] Необходимо обратить внимание на причины, позволяющие занять моде гораздо большее и почетное место, чем обычно считается. Эмоции, страсти и переживания необходимо было заключить в жесткие рамки общественных форм: таким образом, общественная жизнь обретала порядок. Способы выражения непосредственных душевных движений еще отсутствуют, лишь в эстетическом воплощении может быть достигнута та высокая степень выразительности чувств, которой требует эта эпоха. И тут на помощь приходит мода. Воздействие черных одежд, которые в случае смерти государя надевали не только придворные, но и советники магистрата, члены ремесленных гильдии и прочие простолюдины, должно было быть еще более сильным по контрасту с повседневной, красочной пестротой средневековой городской жизни. В трауре выражение участия облекалось во впечатляющие формы с удивительным разнообразием. Здесь таились безграничные возможности пышно преувеличить размеры несчастья – в противоположность преувеличенному линованию на неизмеренных придворных празднествах. Воздержимся от детального описания мрачной пышности черных траурных одеяний, броского великолепия погребальных обрядов, которые сопровождали кончину венценосной особы. Мода могла выражать не только эстетические представления. Пышный траур по убитому Иоанну Бесстрашному был задуман с явным расчетом на сильный эффект, в том числе и политического характера. Военный эскорт, в котором выступает Филипп Добрый, чтобы встретить королей Франции и Англии, щеголяет двумя тысячами черных флажков, черными штандартами и знаменами в семь локтей длиной, отороченные черной меховой бахромой; и повсюду вышиты или нанесены краской золотые гербы. Золото на черном должны были символизировать величие дома даже в тяжелые времена. Трон и дорожная карета герцога по этому случаю так же выкрашены в черное.[284] На торжественной встрече в Труа Филипп Добрый верхом сопровождает королев Англии и Франции; он в трауре, и его черный бархатный плащ, ниспадая с крупа его коня, свешивается до земли. Еще долгое время спустя не только он, но и его свита нигде не появляются иначе как в черном.[285] Вне всякого сомнения, под чернотою траурных одеяний нередко таилась подлинно сильная и страстная боль. Острое отвращение к смерти, сильное чувство родства, внутренней причастности к государю превращали его смерть в событие, которое поистине потрясало душу. И если еще при этом - как в случае убийства герцога Бургундского в 1419 г. - оказывалась затронута честь гордого рода, взывавшая к мести как к священному долгу. Тогда пышное публичное выражение во всей своей чрезмерности вполне могло отвечать истинному душевному состоянию. И одежда через моду как ничто помогала выразить экспрессию чувств. Наряду с трауром покои для пребывания после родов предоставляют широкие возможности для демонстрации роскоши и иерархических различий а убранстве. Прежде всего, это жестко установленный цвет. Зеленый цвет в XV столетии был привилегией королев и принцесс. Тани, меха, цвет одеял и постельных покрывал - относительно всего этого были соответствующие предписания.[286] На столике в этих покоях постоянно горят две большие свечи в серебряных подсвечниках, так как ставни могут быть открыты не ранее, чем через четырнадцать дней. Но примечательнее всего пустующие парадные ложа. Молодая мать возлежит на кушетке возле огня, младенец же, Мария Бургундская, - в своей колыбели в детской; помимо этого, здесь же стоят две большие кровати, искусно объединенные зелеными занавесями; в детской тоже две большие кровати, цвета здесь - зеленый и фиолетовый; и, наконец, еще одна большая кровать в приемной, отделанная малиновым атласом. Эта парадная комната в свое время была принесена в дар Иоанну Бесстрашному городом Утрехтом. Во время празднований по случаю крестин все эти кровати служили церемониальным целям.[287] Эстетическое отношение к формам быта проявлялось в повседневной городской и сельской жизни: строгая иерархия тканей, мехов, цвета одежды создавала для различных сословий то внешнее обрамление, которое возвышало и поддерживало чувство собственного достоинства в соответствии с положением или саном. Эстетика душевных переживаний не ограничивалась формальным выражением радости или горя по случаю рождения, бракосочетания или смерти, где парадность была задана самим ходом установленных церемоний. Людям нравилось, когда все, что относилось к сфере этического, принимало прекрасные формы. Отношение к жизни возводится до уровня стиля; вместо склонности скрывать и затушевывать личные переживания и проявления сильного душевного волнения ценится стремление найти для них нужную форму и тем самым превратить в зрелище также для посторонних. Все эти стилизованные прекрасные формы придворного поведения, которые призваны были вознести грубую действительность в сферу благородной гармонии, входили в великое искусство жизни, не снижаясь при этом до непосредственного выражения в искусстве в более узком смысле.[288] Формы повседневного обихода с их внешне альтруистической непринужденностью и предупредительностью, придворная пышность и придворный этикет с их иерархическим великолепием и серьезностью, праздничный обряд свадьбы и радостное убранство парадных покоев роженицы - красота всего этого ушла, не оставив непосредственных следов в искусстве и литературе. Средство выражения, которое объединяет их все, - не искусство, а мода. В XV в. область моды или, лучше сказать, нарядов гораздо ближе примыкает к сфере искусства, чем кажется на первый взгляд. Не только из-за того, что обязательные украшения, так же как и металлические предметы отделки одежды, вносят в костюм непосредственный элемент прикладного искусства. Моду связывает с искусством общность основных свойств: стиль и ритм для нее так же необходимы, как и для искусства. Позднее Средневековье неизменно выражало в одежде стиль жизни в такой мере, что современному человеку не возможно даже представить. В повседневной жизни различия в мехах, в фасоне шляп, чепцов, колпаков выявляли строгий распорядок сословий и титулов, подчеркивали нежные или трагические чувства.[289] Из всех видов отношения к жизни эстетическая сторона была разработана с особой выразительностью. И чем больше было в таком отношении заложено красоты и нравственности, тем в большей степени формы, в которых оно выражалось, способны были стать чистым искусством. Траур ярко и выразительно претворяется в долговечных и величественных произведениях искусства – в надгробных памятниках. Учтивость и этикет обретают красоту исключительно в самой жизни, в одежде и в роскоши. Говоря о культуре Бургундии, помимо придворной жизни, выраженной в форме рыцарского идеала, необходимо сказать еще об одном аспекте, а именно о художественной культуре. Сфера искусства полностью смыкается с придворной культурой, которая была ее основным заказчиком и потребителем. Между тем в данный период искусство начинает проявлять себя более самостоятельно, проявляются новые тенденции, связанные, прежде всего, с расцветом французского и нидерландского Ренессанса. Культурная жизнь начинает смещаться в Нидерланды еще при первых герцогах, и Филипп уже переносит свой двор в Брюссель,[290] поближе к центру экономического и культурного напряжения страны. Нидерландское искусство оказало существенное влияние на придворную этику, да и на мировоззрение герцогов, внеся в них ренессансные элементы, о чем было уже упомянуто. Придворная жизнь, с ее великолепными турнирами, театрально пышными празднествами, роскошно оформленной властной функцией требовала лучших художников того времени, которые в большинстве своем выходцами из Нидерландов. Женитьба Карла Смелого на Маргарите Йорк в 1468 г. потребовала привлечение 300 художников для оформления праздника.[291] Великолепные портреты герцогов дошли до нас именно в исполнении нидерландских живописцев. Конечно, расцвет северного Возрождения еще впереди, но уже у истоков бургундские герцоги поддерживали искусство и активно покровительствовали ему. Привлечение ко двору знаменитых художников было еще одним способом укрепить свой авторитет и поднять свой имидж, и бургундские герцоги широко использовали эту возможность. Уже первый герцог Филипп Храбрый принадлежал к числу крупных меценатов и коллекционеров того времени. Для упрочнения своего авторитета как государя герцог начал строительство Шанмоль в Дижоне, он должен был стать символом могущества герцогов, своего рода бургундским Сен Дени, Филипп Храбрый задумал его родовой некрополь. Строительство велось с размахом: из всех подвластных земель приглашали мастеров, материалы привозили из Италии, Голландии, Франции. Руководил работами архитектор Друэ де Даммартен и скульптор Жан де Морвиль.[292] Для оформления монастыря был приглашен прославленный мастер Мельхиор Брудерлам, этот мастер, уроженец Ипра, с 1384 г. работал в Бургундии. Он украшал картинами пышный алтарь церкви дижонского монастыря.[293] В 1397 г. герцог пригласил к себе придворным художником крупного живописца Жана Малуэля, покинувшего ради этого парижский королевский двор. При бургундском дворе работали и прославленные братья Лимбурги.[294] В 1425 г. на службу герцогу Филиппу Доброму поступает Ян Ван Эйк, с жалованием 100 ливров в год. Просвещенный герцог при всей своей хитрости и жестокости имел достаточно ума и такта не только не мешать художнику, но и поддерживать его и ограждать от несправедливости. На меценатскую деятельность тратились большие средства. Так в 1435 г. герцог повысил жалование Ян Ван Эйка до 360 ливров. Герцогские бухгалтеры отказались выплатить такую огромную сумму, и потребовалось личное вмешательство герцога.[295] Филипп Добрый держал в Брюсселе пышный двор и активно покровительствовал искусствам, хотя его меценатство и было лишено гуманистической направленности. Важнейшим знамением времени стало следующее: к утехам славы и возвышенной любви прибавились радости ума. Надо, впрочем, сразу же оговориться – интеллектуальная глубина и начитанность не стали распространенным явлением, чаще всего они не шли поверхностного следования моде. Покровительство наукам и искусствам прежде всего были вопросом престижа. Подводя итог очерку о придворной культуре, можно сказать, что бургундский двор был одним из самых блестящих и расточительных в Европе. При нем нашли свое последнее пристанище поклонники рыцарских идеалов и певцы рыцарской культуры. Эта культура крайне эстетизировалась в ту пору и выродилась в пышное представление с тщательно обученными актерами, наслаждавшимися своей игрой и постоянно старавшимися убедить себя в ее серьезности. Ослепительные по красоте и изобретательности оформления придворные празднества и турниры, в подготовке которых участвовали лучшие нидерландские художники того времени, театрально пышные приемы посольств, а в случае войны – сборы больших армий и устройство лагерей, напоминавших города и игравших яркими красками шатров и палаток - все это создавало герцогам тот ореол величия, о воздействии которого говорит Коммин: «Я лишь поражался, что кто-то осмеливается сражаться с моим господином, поскольку считал его величайшим из всех».[296] Рыцарский идеал как «бургундская идея» и его роль в политике. То, что можно было бы назвать « бургундской идеей», постоянно облекается в форму рыцарского идеала. Прозвища герцогов Храбрый, Бесстрашный, Смелый, разве не окружали они государя сиянием рыцарского идеала. Рыцарская этика была важнейшей составной частью средневекового сознания. Точнее можно было бы сказать, что она формировала у многих представителей аристократии особый тип сознания. Но сознания также нравственного, поскольку оно опиралось на этические ценности, но не только, а подчас и не столько христианские, сколько выработанные богатой и самобытной рыцарской культурой. Влияние этой культуры на политическую жизнь в историографии, по крайней мере, отечественной еще не оценено по достоинству. Возникшая благодаря необычайному подъему самосознания аристократии, самосознания отлившегося в уникальные и культурно-этические формы, эта культура придала бургундской и вообще западной цивилизации те неповторимые черты, которые не изгладились и тогда, когда исчезло само рыцарство и ушли в прошлое многие черты его миросозерцания, вытесненные новой общественной мыслью. Рыцарская этика по отношению к христианству была автономной этической системой, особенно в своих светских, наиболее существенных элементах, и в то же время смыкавшийся с христианской, которой она подчинялась и как бы получала от нее право на существование благодаря таким общим идеям, как справедливость и мир, поддержка которых вменялась в обязанности рыцарю.[297] Главные нормы рыцарской этики: честь, доблесть, храбрость, щедрость, куртуазность. Но они не ставились в прямую зависимость от результатов деяния рыцаря, то есть соблюдение этих норм требовалось как в победе, так и в поражении. «Добродетельно поступайте во всем, как и должно поступать, и тогда все – и победы и поражения – послужат вашей чести»,[298] – подводит итог Шатлен. Конечно, рыцарская этика отвечала не столько цели защиты веры, мира и справедливости, обязательными в силу христианства, сколько более конкретной цели – приобретение чести и славы что, впрочем, могло совмещаться с борьбой за справедливость, но часто расходилось. Слава становится главным стимулом рыцарских деяний, защита же справедливости упускалась из виду.[299] Основой культуры является этика. Этика рыцарства, соперничая с христианской моралью и в известной мере ей противостоя, была проникнута духом сословной гордыни. Христианская мораль – это мораль милосердия и смирения, а рыцарская – гордости и достоинства. Вместе они создавали как бы силовое поле, ускорявшее духовное развитие всего общества. Рыцарская этика выполняла важную общественную функцию, ее авторитет и влияние выходят далеко за границы высшего сословия. Рыцарство положило начало светской этике в Западном мире. В XV в. ее нормы претерпели различные изменения так или иначе связанные с сознательными трансформациями и переоценкой нравственных ценностей. Но сколько бы глубокими не были изменения, рыцарское этическое наследие никогда полностью не обесценивалось, и всегда вплоть до настоящего времени, в той или иной мере сохраняло свое культурное значение и притягательность. И не только благодаря духу бескорыстия рыцарского идеала, в любые времена находившего отклик в человеческих сердцах. В гораздо большей степени его жизнестойкость обеспечивалась этическими нормами, призванными к поддержанию личного достоинства, чести и гордости. Одни из этих ценностей долгое время котировались лишь среди дворянства, оказывая на другие сословия лишь опосредованное влияние, другие сравнительно рано, в XIV-XV веках, были обращены к низшим сословиям, вызывая ответный спрос на них, или получали распространение благодаря своей естественной притягательности для них как атрибут благородства.[300] При всем богатстве и разнообразии научной литературы о культуре рыцарства его история в XIV-XV веках изучена гораздо хуже, чем история предшествующей эпохи классического рыцарства. Исследователям позднее средневековье интересно прежде всего с точки зрения упадка этой культуры, который несомненно имел место. Однако важно то, что в это время происходят процессы преобразования многих рыцарских ценностей, благодаря чему они спокойно пережили самое рыцарство. Рыцарская этика восприняла различные по происхождению и значению элементы, составившие упорядоченную с мировоззренческой и психологической точки зрения систему. У ее истоков лежат сугубо воинские понятия храбрости, доблести и славы. Но особым ее составляющим, придававшим ей действительно оригинальный характер, были феодальные и куртуазные представления, которые упрочивали социальное превосходства. Эти представления отражены в категориях верности, чести и куртуазности. Главной характерной чертой рыцарской этики было то, что она, как и христианская, обладала безусловной, абсолютной ценностью для дворянина, поскольку определяла смысл его существования, представлявшийся в обретении чести и славы. Не было ничего другого более важного, за исключением спасения души, к чему рыцарь должен был устремлять свои помыслы. Эта абсолютизация этики выражалась в том, что соблюдение ее норм признавалось абсолютно необходимым, независимо от результатов действий человека. Иными словами цель подчинялась средствам, и применительно к рыцарству это оборачивалось главным образом тем, что победа на поле брани была славной лишь в том случае, если она обреталась не в нарушении кодекса чести. Шатлен писал: «Помните, что побеждать и терпеть поражения надлежит с честью».[301] В XIV в. окончательно оформился кодекс чести, жестоко регламентирующий правила поведения рыцаря на поле боя. Цель правил – исключить какие-либо случайные преимущества и создать равные условия боя, так, чтобы его исход зависел исключительно от личных качеств сражающихся. Помимо недопустимости отступления в бою и обязательности принятия вызова кодекс требовал предварительного предупреждать о нападении, запрещал нападать большим числом людей на меньшее и т.п. Именно в соблюдении этих правил и состояла рыцарская честь и доблесть. Шатлен, например, с большой похвалой пишет о герцоге Филиппе Добром, который «мог бы пожертвовать жизнью, но никогда не поступился бы честью, отступив в бою». С полным пониманием он описывает терзания Филиппа Доброго, которому во время одной из компаний пришлось выдержать тяжелую борьбу с требованием чести, когда в течение одного дня ему трижды предлагали сражение, и он трижды вынужден был ответить отказом. Для герцога, поясняет Шатлен, «ущемление чести, случись таковое, было бы горше смерти».[302] Честь, ценимая в XIV-XV в. превыше всего, в том числе и жизни, была своего рода краеугольным понятием рыцарской этики, обеспечивающим ее абсолютный характер. Формальное чувство чести настолько сильно, что нарушение этикета ранит подобно смертельному оскорблению, так как нарушает прекрасную иллюзию собственной возвышенной жизни, отступающую от не прекрасной действительности. Иоанн Бесстрашный воспринимает как неизгладимый позор то, что с пышностью выехавшего ему навстречу парижского палача Капелюши приветствует как дворянина, касаясь его руки; только смерть палача может избавить его от этого позора.[303] На торжественном обеде по случаю коронации Карла VI в 1380 г. Филипп Храбрый силой протискивается на место между королем и герцогом Анжуйским, которое ему подобает занять как первому среди пэров; их свита вступает в препирательство, и уже раздаются угрозы разрешить этот спор силой, когда король, наконец, унимает их, соглашаясь с требованием Филиппа Храброго.[304] Несомненно, рыцарский идеал оказывал влияние на политику и военное искусство. Разве не лежит сама идея создания Бургундского государства – величайшая ошибка, которую только могла сделать Франция, - в традициях рыцарства? Истинный рыцарь король Иоанн Добрый в 1363 г. дарит герцогство своему младшему сыну, который не покинул его в битве при Пуатье, тогда как старший сын бежал. Таким же образом известная идея, которая должна была оправдывать последующую антифранцузскую политику бургундцев в умах современников, - это месть за Монтера, защита рыцарской чести. Конечно, все это может быть объявлено расчетливой и даже дальновидной политикой; однако это не устранит того факта, что указанный эпизод, случившийся в 1363 г., имел вполне определенное значение в глазах современников и запечатлен был в виде вполне определенного образа рыцарской доблести, получившей истинно королевское вознаграждение.[305] Конечно, Бургундское государство и его быстрый расцвет – продукт политических соображений и целенаправленных трезвых расчетов, но рыцарский идеал неизменно выступает в качестве государственной идеологии Бургундии, и герцоги учитывают и гордятся своим титулом первейших рыцарей. Примером влияния рыцарской этики на реальные политические события может служить следующее. В 1407 г. соперничество между Орлеанской и Бургундской династиями вылилось в открытую вражду: Людовик Орлеанский гибнет от рук наемных убийц Иоанна Бесстрашного. Двенадцатью годами позже свершается месть: в 1419 г. Иоанн Бесстрашный предательски убит во время торжественной встречи на мосту Монтеро. Убийство этих двух герцогов и тянущаяся за этим вражда, питаемая жаждой мести, порождают ненависть, которая окрашивает в мрачные тона французскую и бургундскую историю на протяжении чуть ли не целого столетия. Народное сознание все несчастья воспринимает в свете этой драмы: оно не в состоянии постичь никаких иных побудительных причин, повсюду замечая только личные мотивы и страсти.[306] Для современников гораздо более важными мотивами, чем политическими или экономические причины, были жажда мести и дьявольское высокомерие Бургундских герцогов. Разумеется, нелепо возвращаться к тому упрощенному взгляду на историю, который царил в XV в. Но все же нужно сознавать, что для современников, как непосредственных участников этой великой ссоры, кровная месть была сознательным мотивом, господствующим в деяниях государей и в событиях, в которые были вовлечены эти страны. Филипп Добрый для своих современников по преимуществу мститель. Шатлен видит в этом священный долг герцога: «и с жестокой и смертельной горячностью бросился бы он отмстить за убиенного, только бы Господь пожелал ему то дозволить; и воистину отдал бы во имя сего плоть и душу, богатство свое и земли, уповая на фортуну и видя в том душеспасительный долг и дело богоугодное, которое он обязан скорее предпринять, чем отвергнуть».[307] Мотив кровной мести активно вторгается в политику, Ла Марш отмечает, что мщение воспринималось как долг чести также и всеми, кто жил во владениях Филиппа Доброго; оно было мотивом всех политических устремлений; все сословия в его землях взывали одновременно с ним к мести.[308] Потребность в отмщении, вот на что, прежде всего, следует обратить внимание. Да и что их политики своих государей народ мог понять лучше всего, чем незамысловатые, примитивные мотивы ненависти и мести? Преданность государю носила импульсивный характер и выражалась в непосредственном чувстве верности и общности. Она представляла собой расширение представления о связи вассала с сюзереном. Это было чувство принадлежности к той или иной группировке, чувство государственности здесь отсутствовало. Рыцарская этика представляла для дворянина целую концепцию жизни, так как она определяла и смысл жизни, и ее нормы. Она воспринималась в качестве регулятора не только социальных, но и политических отношений, поскольку короли и герцоги были также дворянами, и на их поведение распространялись требования кодекса чести. Отсюда становятся понятными дуэли, на которые то и дело одни государи вызывали других, но которые в действительности так никогда и не происходили. Мы уже отмечали, что разногласия между отдельными государствами в XV в. воспринимались все еще как распря между партиями, как личное столкновение. Можно долго предполагать, чего же здесь было больше: изящной игры, сознательного притворства – или же противники, в самом деле, жаждали настоящей схватки. По крайней мере, без сомнения, современники все это воспринимали всерьез, так же как и сами государи.[309] В 1383 г. Ричард II начинает переговоры о мире с Францией, и в качестве наиболее подходящего решения предлагает поединок между Ричардом II и его тремя дядьями, с одной стороны, и Карлом VI и его тремя дядьями (в том числе и Филиппом Храбрым) с другой.[310] Хамфри герцог Глостер в 1425 г. получает вызов от Филиппа Доброго, способного как никто взяться за эту светскую тему. Все уже было готово для поединка: дорогое оружие и пышные доспехи для Бургундского герцога, военное снаряжение для герольдов и свиты, шатры, штандарты и флаги. Филипп Добрый ежедневно занимается фехтованием под руководством опытных мастеров. Однако из всей этой затеи ничего не вышло.[311] Это не помешало Филиппу Доброму позднее, в споре с герцогом Саксонским за Люксембург, вновь предложить поединок, а однажды герцога лишь с большим трудом удержали от поединка чести с дворянином, который был подослан, чтоб убить его.[312] Шатлен со всей ясностью излагает мотивы государственной дуэли: «Дабы избежать пролития христианской крови и гибели народа, к коему питаю я сострадание в своем сердце, пусть плотью моей распре сей не медля положен будет конец, да и не ступит никто на стезю войны, где множество людей благородного звания и прочие, как из моего, так и из вашего войска, скончают жалостно дни свои».[313] Грандиозная игра в прекрасную жизнь – грезу о благородной мужественности и верности долгу, как назвал ее Й. Хейзинга,[314] - имела в своем арсенале не только вышеописанную форму вооруженных состязаний. Другой не менее важной формой был рыцарский орден. Рыцарский орден воспринимался как крепкий священный союз, играющий немаловажную роль в политике. Герцог Бэдфорд пытался сделать кавалером ордена Подвязки Филиппа Доброго, чтобы тем самым закрепить его союз с Англией. Филипп Добрый же, понимая, что в таком случае он навсегда будет привязан к королю Англии, находит возможность вежливо отказаться от этой чести.[315] Позднее орден Подвязки принимает Карл Смелый, и Людовик XI рассматривает это как нарушение соглашения, обязывающего герцога Бургундского не вступать в союз с Англией. Данный пример показывает, насколько высоко ценилась принадлежность к ордену. Естественно, Бургундии, как центру европейского рыцарства, необходим был свой орден. Одним из самых известных рыцарских орденов, являлся орден Золотого Руна, основанный в Брюгге 10 февраля 1430 года (по другим данным - 10 января 1429 г.1) герцогом Бургундии Филиппом Добрым.[316] Орден первоначально замышлялся как личный орден бургундского герцога. Формально орден Золотого Руна (Тoison d'or) был посвящен деве Марии и святому Андрею и преследовал благую цель охраны церкви и веры. Число членов ордена первоначально ограничивалось двадцатью четырьмя самыми знатными рыцарями. Мишо Тайеван в поэтической форме подчеркивал духовно-рыцарский характер ордена: Не для того, чтоб прочим быть под стать, Не для игры отнюдь или забавы, Но чтобы Господу хвалу воздать И чая верным - почести и славы. Знак ордена первоначально представлял собой золотое изображение овечьей шкуры, похищенной из Колхиды Язоном, которое укреплялось на цепи. Двадцать восемь звеньев цепи несли изображения кремней с языками пламени и огнив со сценами битвы Язона с драконом. Впоследствии орденский знак в дополнение к золотому руну получил стилизованное, отлитое из золота, изображение кремня и огнива с помещенной на изогнутой ленте надписью: 'Награда не уступает подвигу' (Nonvile pretium laborum). Кроме того, орден имел еще два девиза: 'Сначала удар, затем вспыхнет пламя' и 'Я обладаю и иного не желаю', при чем последний вышивался золотом на алой орденской мантии. Однако очень скоро недоброжелателями бургундского герцога было подмечено противоречие между символикой и этической концепцией ордена, что намекало на политику Бургундии по отношению к Франции. Для бога и людей презренны Идущие, поправ закон, Путем обмана и измены, - К отважных лику не причтен Руно колхидское Язон, Похитивший изменой лишь. Покражу все ж не утаишь.[317] (Ален Шартье) Причину наибольшего успеха ордена Золотого Руна по сравнению со всеми прочими выявить не так уж трудно. Богатство Бургундии – вот в чем было все дело. Идеалы рыцарства глубоко проникли в менталитет герцогов, на заключительном этапе рыцарства именно они стали его вождями. И последний взлет рыцарства они расцветили прекрасными красками. Герцоги стали идеальным воплощением рыцарской идеи: храбрость, честь, доблесть, щедрость, куртуазность – стали истинными идеалами их жизни, но вместе с рыцарскими идеалами герцоги стремились следовать прекрасным жизненным образцам |
|
© 2000 |
|