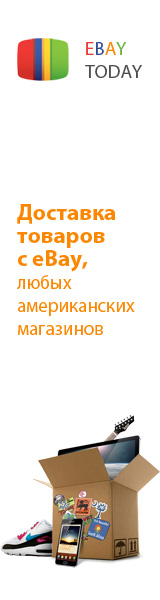|
РУБРИКИ |
Пётр Первый |
РЕКЛАМА |
||
|
Пётр ПервыйПётр ПервыйПЕТР ПЕРВЫЙ РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ В тысячелетнем ряду носителей русской верховной власти Петр Первый занимает совсем особое положение. Носители этой власти, начиная с Олега и кончая Николаем Вторым, дали чрезвычайно немногих людей с ярко выраженной индивидуальной линией в политике. Если исключить восемнадцатый век, с его надломом русской монархической идеи, и его дворцовыми переворотами, цареубийствами и преторианством — то можно сказать, что русская история выработала совершенно определенный тип «Царя-Хозяина», — расчетливого и осторожного «собирателя земли», ее защитника и устроителя, чуждого каких бы то ни было авантюрных порывов, — но и чуждого той индивидуальной яркости, какую дает в политике авантюра. Русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд. И даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей. Инерция чудовищных пространств и чудовищной ответственности, как бы сковывала их личные порывы и, может быть, трудно найти в истории еще один пример, где личная и по закону ничем не ограниченная власть так сурово отказывалась бы от личной политики и работала бы в рамках такого железного самоограничения. Менялись столицы, менялись династии, ломался социальный строй страны, возникали, падали, снова возникали и снова падали ее враги, росла ее территория, но задачи верховной власти оставались, по существу своему, теми же самыми. И они очень хорошо укладывались в формулировку: «державный хозяин земли русской». Если искать в истории принципиальную противоположность русской монархии, то носителем этой противоположности будет не республика — это будет бонапартизм с его пышной фразой, с его театральным жестом, с его вождизмом и с его полной беспощадностью к народу и к стране республика такой беспощадности все-таки не знает. Бонапартизм рассматривает народ, как боевого коня — и превращает его в клячу, как превратили Францию два Наполеона — Первый и Третий. Державный Хозяин есть прежде всего хозяин — с хозяйским глазом и хозяйским расчетом, — прозаическим, бережливым, иногда и скопидомским. Александр Невский вел такую же расчетливую, скопидомскую политику по отношению к Орде, как Иван III по отношению к удельным князьям или Николай I по отношению к дворянству. Жизнь огромного народа ставила свои очередные задачи — и эти задачи решались с той осторожной мудростью, какая дается сознанием столь же огромной ответственности. Иногда это решение казалось слишком медленным, но оно всегда оказывалось окончательным. Мы сейчас живем в период какой-то судорожной решимости, и мы, может быть, больше, чем другие поколения истории можем оценить сомнительные преимущества эпилептических движений в политике. Сейчас все, или почти все, пытаются в двадцать четыре счета решить все вопросы на тысячу лет вперед — ни копейки меньше. А иногда больше: большевизм пытается решить их навсегда. Тем последующим деятелям мировой политики, которые будут осторожнее уже по одному тому, что мир обеднеет в совершенно чудовищной степени, — придется забыть о тысячелетних планах и работать по системе Александра Невского или Николая Первого и расхлебывать кашу, заваренную их эпилептическими предшественниками. Это будет медленная и очень прозаическая работа. Для того, чтобы погубить половину конского поголовья России и уничтожить половину ее промышленных лесов — достаточно лозунга, нагана и активиста. Но для того, чтобы снова вырастить этих коней, для того, чтобы снова дать вырасти лесам — потребуются десятилетия совсем прозаической работы. Той работы, которая не дает никаких тем для легенды и после которой не остается ни Вандомских колонн, ни гигантов на бронзовых, а также и на прочих, конях. По странному свойству человеческой психологии — великие памятники воздвигаются именно великим поджигателям мира. Алексею Михайловичу, который вытащил Россию из дыры (или при котором Россия вылезла из дыры) не поставлено ни одного памятника. Наполеон стал легендой, сладчайшим воспоминанием умирающей Франции, которая умиранием обязана преимущественно ему — этому «Великому Корсиканцу» — даже и не французу. Россия больше всего памятников воздвигла именно Петру. И бронзовых и, тем более, литературных. Петр является необычайно ярким исключением в ряду русских великих князей, потом царей, потом императоров: это был как бы взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне довольно однотипных строителей, хозяев и домоседов. Он, конечно, действовал на воображение. Несколько дальше мы увидим, как это воображение подчинило себе элементарнейшие логические способности даже и таких объективных историков, как Ключевский. Эпоха Петра, как бы ее ни оценивать, является крутым и почти беспримерным в своей резкости переломом в русской истории. Со значением этого перелома можно сравнивать только битву при Калке и Октябрьскую революцию. Он определил собою конец Московской Руси, то есть целого исторического периода, со всем тем хорошим и плохим, что в ней было, и начал собою европейский, петровский, петербургский или имперский период, кончившийся Октябрьской революцией. И в центре этого перелома стоит личность Петра. ЛИЧНОСТЬ И МАССА Вопрос о личной роли Петра в ходе русской истории более или менее автоматически приводит нас к несколько метафизическому вопросу о роли личности в истории вообще. На эту тему написано много тысяч томов. Марксизм, как известно, начал с полного отрицания роли личности и кончил обожествлением вождя и отца народов — в таких масштабах и в таком стиле, какие были известны только древним монархиям востока — вот вроде ассирийской. Наша народническая теория (Лавров), впервые сформулировавшая понятия «критически мыслящей личности», творящей историю вопреки воле масс, ни одной «личности» так и не выдвинула. Современная нам Европа капитулирует перед более или менее безличными англо-американскими демократиями. Моя собственная теория, вероятно, уже известная читателям, относится к культу личности довольно мрачно: «гений в политике — это хуже чумы». Повторяю еще раз: вопрос о личности и о массе поставлен методологически неправильно. И он может быть решен только в том случае, если мы и «личности» и «массе» уделим какой-то процент участия в общих наших делах, — процент, который в разных случаях будет иметь разную величину. В науке роль «массы» будет равна приблизительно нулю. В текущей политике — личность может натворить очень много, но длительные исторические процессы сводят все-таки ее роль к категории исторических случайностей, которые выравниваются последующим ходом событий. Однако, на каком-то данном отрезке истории личность может сыграть колоссальную роль. Ленин, организовавший Октябрьское восстание, вопреки мнению всех остальных членов Центрального Комитета партии и выигравший это восстание, может служить классическим примером подчинения «истории» воле «вождя». Но «дело Ленина» сейчас еще не вполне закончено. «Санкт-Петербургский» период русской истории можно считать конченным. Не пора ли подсчитывать прибыли и убытки, от него происшедшие? В. Ключевский, который вообще избегает высокопарных, формулировок, считает Петра «одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие, по неизведанным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве» — к этой формулировке я буду придираться несколько позже. Почти все остальные историки, — в том числе и советская официальная история СССР, — считают Петра гением — просто и безоговорочно. Ключевский, сравнивая Петра с Александром Македонским, отдает, впрочем, предпочтение последнему. Это предпочтение мне кажется мало обоснованным: дело Александра рухнуло на другой день после его смерти. Дело Петра продержалось, как-никак, двести лет. Еще менее удачно сравнение Петра с Наполеоном: «дело» Наполеона не дожило даже и до смерти корсиканского героя: Наполеоновская Франция была оккупирована союзниками, и сам Наполеон кончил свои дни не столько изгнанником, сколько арестантом. Петр был счастливее своих конкурентов по гениальности: Россия двести лет жила под звездой его гения, и даже большевики пытаются найти моральное подкрепление своей политике в славных традициях Петра. Зрелище получается, поистине, занятное: Екатерина Вторая и теоретик русского монархизма Л. Тихомиров — с одной стороны, Сталин и теоретики революции Маркс и Энгельс, — с другой, трогательно сходятся в оценке петровской гениальности. Какой другой деятель мировой истории может похвастаться столь разношерстными почитателями! К вопросу о гениальности Петра я вернусь несколько ниже. Здесь нам нужно установить тот факт, что вся совокупность, так называемых, петровских реформ оставила очень глубокий след в истории России. Результаты этих реформ мы чувствуем и расхлебываем еще и сегодня. Очень трудно предположить, чтобы ближайшие поколения смогли бы эмансипироваться от политических последствий Петра и еще менее вероятно, чтобы историческая оценка этих последствий привела бы нас хоть к кое-какому единодушию. Если и двести лет после своей смерти человек продолжает оставаться живым символом живых политических интересов и страстей, то уж это одно свидетельствует об огромности сдвига, им произведенного, или им символизируемого. Можно утверждать, что ни в одной стране, ни один человек не оставил таких глубоких — и таких спорных следов своей работы, какие оставил в России Петр. Что мы должны отнести на долю его гениальности и что на долю исторического процесса? Думаю, что аптеки, в которой могли бы быть взвешены отдельные составные части этой исторической микстуры, еще не существует. Думаю также, что в личной роли Петра — огромную, решающую роль сыграло его право рождения, никакого отношения к гениальности не имеющее. Наши историки как-то не заметили и не отметили того факта, что Петр был не только царем, он был царем почти непосредственно после Смуты, то есть после той катастрофы, когда прекращение династии Грозного привело Россию буквально на край гибели и когда только восстановление монархии поставило точку над страшными бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной интервенцией. Московские люди семнадцатого века еще помнили — не могли не помнить — всего того, что пережила страна в эпоху междуцарствия. Распря Софии с Петром грозила тем же междуцарствием — не оттого ли вся Москва так сразу, «всем миром», стала на сторону Петра? И не оттого ли вся Россия, при всяческих колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды, все- таки, в общем поддерживала Петра? Петр для многих, очень многих, — казался чуть ли не Божьей карой. Но был ли лучшим выходом Булавин, — с его новыми ворами? Или Софья с повторением семибоярщины? Или гражданская война в Москве, с повторением всей смутной эпопеи совсем заново? Петр для очень многих казался плохим — совсем плохим царем. Но самый плохой царь казался, все-таки, лучше самой лучшей революции. Несколько неожиданным оказался тот факт, что в Петре совместилась и монархия, и революция, но это совмещение современники Петра едва ли успели заметить: революционные перемены Петра нарастали постепенно — от случая к случаю — «рождались войной», как говорят нынешние историки... Они никогда не фигурировали в форме тех «программ», какие предлагали обездоленному человечеству его такие лучшие друзья, как Ленин и Гитлер. Все это вырастало постепенно: сначала потешные, — почему бы и нет? Потом поход в Азов, — Азов для Москвы был очень нужен. Потом стройка флота, — флот стали строить и до Петра. Потом войны со Швецией — на Швецию Москва нацеливалась очень давно. Для войны нужна регулярная армия, — ее стал заводить уже Грозный. Потом столица в Петербурге, — но и без Петербурга Москва Петра вообще видывала только мельком — и был ли он в Петербурге или околачивался по заграницам — для Москвы было безразлично. Пьянство, табак, немецкие кафтаны, антирелигиозное хулиганство оценивались сначала, как ребячья блажь: «женится — остепенится». Но и женитьба не остепенила. Во всяком случае, в «революции» Петра отсутствовал самый основной революционный элемент: насильственный захват власти, отсутствовал тот обычно весьма четкий перелом, который определяет «старый режим» от его революционного наследника. В лице Петра «революцию» производил сам «старый режим» и производил ее а) законными средствами и б) с патриотической целью. И, наконец, революционный оттенок петровские деяния получили уже только впоследствии — во всей их сумме. Современникам она казалась нарастающим рядом безобразий и неудач, но никак не революцией. И петровская Россия. несмотря на резкое осуждение деяний и методов Петра — на «контрреволюцию» все-таки не пошла. Это объясняет прижизненный успех петровских реформ. Их посмертный успех был закреплен новым соотношением социальных сил, о каком Петр, разумеется, и понятия не имел. Таким образом, «личная» роль Петра в истории объясняется прежде всего рядом внеличных факторов. Тем, что Петр родился царем, тем, что он родился царем после междуцарствия и тем, что он вступил на престол в тот момент, когда Россия и без него уже перестраивалась и когда она, в частности, от чисто оборонительной политики переходила к наступательной. В эти объективные факторы резко вклинились личные свойства Петра. И именно личные свойства придали реформе характер революции. Не будь этих личных свойств, история петровских дел и деяний имела бы, вероятно, намного менее спорный характер, чем тот, который она имеет сейчас. ЛИЧНОСТЬ ПЕТРА Ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством литературы, легенд, апокрифов и вранья. Сейчас, читая даже такого объективного и спокойного историка, как Ключевский, невольно приходишь в некоторое изумление: Ключевский делает вид, что он совершенно не знает целого ряда элементарнейших фактов и в нашей, и в европейской истории, и что для него совершенно не обязательны элементарнейшие законы логики: его частные выводы и оценки находятся в вопиющем противоречии с его же общими оценками и выводами. Ниже я попытаюсь доказать это документально. Еще более противоречива общая литературная оценка Великого Преобразователя. Едва ли стоит говорить об оценке Петра со стороны его соратников. И, если Неплюев писал что «Петр научил нас узнавать, что и мы — люди», а канцлер Головин, что «мы тако рещи из небытия в бытие произведены», то это просто придворный подхалимаж, нам нынче очень хорошо известный по современным советским писаниям об отце народов. Производить московское государство «из небытия в бытие» и убеждать москвичей, что и они — люди, не было решительно никакой надобности: Москва считала себя третьим Римом, «а четвертому не быти», а москвич считал себя последним, самым последним в мире оплотом и хранителем истинного христианства. Комплексом неполноценности Москва не страдала никак. И петровское чинопроизводство «в люди» москвичу решительно не было нужно. Дальше идут оценки, к которым понятие подхалимажа никак неприложимо. Их основной тон — почти на столетие — дал Пушкин. Его влюбленность в Петра и в «дело Петрове», и в «град Петра» проходит красной нитью сквозь все пушкинские творчество. Пушкин не видит никаких теневых сторон. Только «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни»; дальнейшие дни — дни славы, побед, творимой легенды о «медном всаднике» и о «гиганте на бронзовом коне», который ... над самой бездной На высоте, уздой железной Россию вздернул на дыбы... «Медный всадник» дал тон, который стал почти обязательным — тон этот общеизвестен. Менее известен толстовский отзыв о «Великом Преобразователе». По политическим условиям старой России он, конечно, опубликован быть не мог. Пушкин слал свое пожелание «Красуйся, град Петра, и стой Неколебимо, как Россия» — а Достоевский пророчествовал: «Петербургу быть пусту». П. Милюков рисовал Петра, прежде всего, как растратчика народного достояния, а Соловьев видел в нем великого вождя, которого только и ждала Россия, уже собравшаяся в какой-то новый, ей еще неизвестный, путь. Мережковскому в Петре мерещился его старый приятель — Антихрист. Алексей Толстой (советский) в своем «Петре Первом» пытается канонизировать Сталина, здесь социальный заказ выпирает, как шило из мешка: психологически вы видите здесь сталинскую Россию петровскими методами реализующую петровский же лозунг: «догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Сталин восстает продолжателем дела Петра, этаким Иосифом Петровичем, заканчивающим дело великого преобразователя. Официальная советская словесность возвращается к пушкинскому гиганту, — а «мятежи и казни» приобретают, так сказать, вполне легитимный характер: даже и Петр так делал, а уж он ли не патриот своего отечества! Великим патриотом считал Петра уже Чернышевский — духовный отец и теоретический изобретатель сегодняшних колхозов. Маркс и Энгельс также считали Петра «истинно великим человеком». Несколько осторожнее, но в том же роде выражался и Ленин. Официальная история СССР, можно сказать, классически объясняет милюковскую критику деяний Петра: «вождь российской буржуазии Милюков старался накануне революции 1905 года в России вылить всю ненависть своего класса ко всему новому, взрывающему старое». (Подчеркнуто мною. — И. С.). Оценивается по-разному даже и внешность Петра. Академик Шмурло так живописует свое впечатление от петровского бюста работы Растрелли: «Полный духовной мощи, непреклонной воли повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микель Анджело. Это поистине, грозный царь, могущий вызвать трепет, но в то же время величавый, благородный». На той же странице, той же книги того же Шмурло приведен и другой отзыв — отзыв художника — академика Бенуа о гипсовой маске, снятой с Петра в 1718 году: «Лицо Петра сделалось в это время мрачным, прямо ужасающим своей грозностью. Можно представить себе, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле, при этом еще бегающие глаза и страшные конвульсии, превращающие это лицо в чудовищно фантастический образ», — о «благородстве» Бенуа не говорит ничего. Разноголосица, как вы видите сами, совершенно несусветная. На ее крайних точках стоят два мнения, категорически противоположные друг другу: мнение величайшего поэта России и мнение величайшего писателя. Эти мнения, конечно, непримиримы никак. Где-то посередине, между этими непримиримостями поместилось поистине умилительное мнение Ключевского: «Петр, по своему духовному складу, был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их...» Да углубит Господь Бог понимательные способности наших историков. И прошлых, и, в особенности, будущих! Об иностранных оценках я не буду говорить. Они в общем складываются довольно однотипно. Их лучшим выражением явятся, пожалуй, довольно длинные стишки князя Вяземского, выгравированные на памятнике Петру в Карлсбаде. На гигантской скале, возвышающейся над немецким курортом, воздвигнут огромный бронзовый бюст Петра и на этом бюсте — стихи — в русском оригинале и в немецком переводе. Стишки начинаются так: «Великий Петр. Твой каждый след Для сердца русского есть памятник священный...» Для немецкого — тоже. Именно по священным следам Петра потекли русские денежки во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном за наш счет. И — еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются: вот это был клиент! Вот он-то «прорубил окно в Европу». И в это окно русское барство понесло русские рубли, выколоченные из русского мужика. Экономическая база исторической оценки построена прочно. * * * Вот вам, значит, «суд истории», судебное заседание длилось 200 лет. Я не питаю решительно никаких иллюзий насчет того, что будущие присяжные заседатели истории, просидев еще двести лет, вынесут какой-нибудь более вразумительный приговор. Но бумаги просижено будет много. Наш историк профессор Виппер в своих книгах несколько раз возвращается к теме об этом суде и пытается доказать законность относительности всякой исторической оценки. Эта оценка — меняющаяся и противоречивая — с его точки зрения есть законный «разрез» — тоже точка зрения, с которой наблюдают события историки разных эпох, разных классов и разных политических течений. Из необозримого количества исторических фактов, люди выбирают те, какие им удобны и угодны и замалчивают те, какие им неугодны или неудобны. Совсем так, как делал Щедринский аблакат: «Я беру ту статью, которая гласит и тую статью я пущаю, — а которая не гласит, так я тую статью не пущаю». Проф. Виппер приводит и ряд красноречивых примеров чрезвычайно либерального обращения со следственными материалами исторического суда. Но если мы, по примеру профессора Виппера, признаем такое обращение законным, то где мы проведем границу, отделяющую историю от печатания фальшивых документов? Вот ведь по поводу того же Петра немцы в 1941 году опубликовали в своей печати «завещание Петра Великого» — не догадавшись справиться в своей же энциклопедии Майера, где это завещание было названо фальшивкой и где было подробно сказано, как эта фальшивка была состряпана по заказу Наполеона I. Завещание, разумеется, носило специфический характер — согласно условиям заказа: Наполеон как раз собирался воевать с Россией и ему надо было исторически доказать, что Россия — по совету Петра, — только того и ждет, чтобы разорить и съесть Европу. Немцы проглотили это завещание, даже и не спросившись Майера. Наполеон и Гитлер действовали, по- видимому, по випперовскому рецепту. Возникает, конечно, довольно законный вопрос: а какой же новый «разрез» преобладает у автора этой книги? И какие новые фальшивки будет открывать в ней новый историк, — если эта книга до историков дойдет? О фальшивках я говорить не буду, а «разрез», конечно, есть. Он сформулирован в предисловии: интересы сотен миллионов, которым, кажется, надоедает служить в качестве сырья для экспериментов и кирпичей для постаментов будущих героев и благодетелей человечества. Мне кажется также, что наше поколение, благодарение Богу, заплатив за очередные эксперименты миллионами сорока-пятьюдесятью русских жизней и исковерканными собственными, заслужило право обходиться без постаментов, экспериментов, легенд и вранья. Мы, кроме того, самолично присутствовали при крушении всего «дела Петра» — исчезла петровская империя, исчезла петровская столица — и даже их имена стерли из памяти ленинского потомства: СССР и Ленинград. Исчезла петровская армия, превратившаяся сначала в красную гвардию, потом в красную армию. Исчезло петровское шляхетство. Исчезли даже губернаторы. И товарищ Сталин начал дело европеизации России так, как если бы петровской попытки никогда и в природе не существовало — совсем сызнова: «догнать и перегнать». Так же снаряжал «воровские экспедиции» для кражи спецов и техники, так же звал иностранных варягов — начиная от Маркса и Бела-Куна и кончая японскими инженерами (пришлось брать даже и с востока), так же строил свои сталинские парадизы на тех же костях, на коих были построены петровские. И нам, как мне кажется, должно было бы быть ясно одно: то, что никак не было ясно ни Ключевскому, ни даже Милюкову: если сказку европеизации Сталин начинает совсем сызнова, — это прежде всего значит, что петровская европеизация не удалась. А прошло двести лет. Япония, начавшая свою европеизацию на полтораста лет позже Петра и совсем другими методами, по-видимому, не имеет сейчас никаких оснований начинать эту сказку сызнова. Попытка, значит, удалась. Наши историки, и еще больше наши писатели, действовали по Випперу, а некоторые даже по Соллогубу: «Я беру кусок жизни, грязной и грубой, и творю из нее легенду, ибо я — поэт». Не будем оспаривать право на поэтическое творчество. Но постараемся без него обойтись. И постараемся прежде всего отскрести образ Петра от всех тех легенд, апокрифов и вранья, которыми его так тщательно замазывали на протяжении более, чем 200 лет. Может быть, личные свойства Петра выступят яснее в результате простого сопоставления некоторых, в сущности очень простых и, казалось бы, общеизвестных фактов. ДВЕ СКАЗКИ Самые благожелательные к Петру историки и писатели не скупятся на черные краски, изображая его пьянство и разгул, его беспощадность и его жестокости. И делают это так, как если бы они понятия не имели, что и пьянство, и беспощадность были явлениями эпохи, и при этом, по преимуществу, не русской эпохи. Наши историки, рисуя петровские поездки заграницу — рисуют тогдашнюю Европу в виде этаких мирных благоустроенных земель, состоящих под опекой благопопечительных и благопросвещенных правителей, воспитывающих народы свои не батожьем и пытками, а мерами разумного и нравственного воздействия, — этакий сплошной саардамский парадиз. Исходная точка всех официальных суждений о Петре сводится к следующему: Москва чудовищно отстала от Европы. Петр, — хотя и варварскими методами, — пытался поставить Россию на один уровень с европейской техникой, моралью, общественным бытом и прочее. Официальная точка зрения довоенной России почти ничем не отличается от официальных советских формулировок: родство, по меньшей мере, странное. Приводятся и личные переживания Петра, толкнувшие его на путь реформы: его впечатления в Кокуйской слободе и его наблюдения в Европе. В общей сумме все это можно было бы сформулировать так: варварство, грязь, отсталость Москвы, — и чистота, гуманность и благоустройство Европы. Ключевский так и пишет: «как ни мало внимателен был Петр к политическим порядкам и общественным нравам Европы, он, при своей чуткости, не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком» — как, дескать, «воспитывалась» Московская Русь. Литературная обработка этой темы достигла своего кульминационного пункта в легенде о саардамском плотнике, восхищенном чистотой, уютом и свободой цивилизованных европейских стран. Описывая европейскую благовоспитанность, историки становятся в тупик перед петровскими антирелигиозными и прочими безобразиями: откуда бы это взялось? Поехал человек в Европу с целью закупки и импорта в Россию всяческой цивилизации и благовоспитанности, а привез такие вещи, за какие двести лет спустя даже и большевики своих воинствующих безбожников по головке не гладили? Я не буду повторять этих вещей: они всем известны — ряд неслыханных кощунств, организованное издевательство над Церковью, беспробудное пьянство, насильственное спаивание людей, ушаты сивухи, которую гвардейцы вливали в горло всяким встречным и поперечным — словом, действительно, черт знает что такое. Откуда бы это? Ответ подыскивается все в том же направлении: этакая широкая, истинно великорусская натура, с ее насмешливостью, необузданностью, широчайшим размахом во всем — в худе, и в добре, и в подвиге, и в безобразии. И тут же делается ссылка на варварское состояние Москвы: «что вы хотите, — варварская страна, варварские развлечения...» Я не историк и в смысле исторической эрудиции никак не могу конкурировать даже с Покровским. Но для того, чтобы увидеть совершеннейшую лживость всей этой концепции — вовсе не нужно быть историком: вполне достаточно знать европейскую историю в объеме курса средних учебных заведений. Даже и этого, самого элементарнейшего знания европейских дел вполне достаточно для того, чтобы сделать такой вывод: благоустроенной Европы, с ее благопопечительным начальством, Петр видеть не мог — и по той чрезвычайно простой причине, что такой Европы вообще и в природе не существовало. Вспомним европейскую обстановку петровских времен. Германия только что закончила Вестфальским миром 1648 г. Тридцатилетнюю войну, в которой от военных действий, болезней и голода погибло три четверти (три четверти!) населения страны. Во время Петра Европа вела тридцатилетнюю войну за испанское наследство, которая была прекращена из-за истощения всех участвующих стран — ибо и Германия, и Франция снова стали вымирать от голода. Маршал Вобан писал что одна десятая часть населения Франции нищенствует и половина находится на пороге нищенства. Дороги Европы были переполнены разбойными бандами — солдатами, бежавшими из армий воюющих сторон, голодающими мужиками, разоренными горожанами — людьми, которые могли снискать себе пропитание только путем разбоя и которых жандармерия вешала сотнями и тысячами тут же на дорогах — для устрашения. Во всей Европе полыхали костры инквизиции — и католической, и протестантской, на которых ученые богословы обеих религий жгли ведьм. За сто лет до Петра приговоров от 16 февраля 1568 года Святейшая Инквизиция осудила на смерть ВСЕХ жителей Нидерландов, и герцог Альба вырезывал целые нидерландские города. В первой половине XVII века нидерландцы принимали участие в Тридцатилетней войне. Сейчас же после ее окончания, они были разгромлены Кромвелем (1652-54), который своим «навигационным актом» начисто ликвидировал голландскую морскую торговлю. Затем последовали две войны с Францией. И, наконец, Нидерланды были втянуты в новую, но по старому бессмысленную войну за испанское наследство. Нидерланды были разорены. Голодные массы на улицах рвали в клочки представителей власти — власть отвечала казнями. Тот саксонский судья Карпцоф, который казнил 20.000 человек, — это только в одной Саксонии! — двадцать тысяч человек, а Саксония была не больше двух-трех наших губерний, помер — совсем перед приездом Петра в ту Европу, которая, по Ключевскому, воспитывалась без кнута и застенка — в 1666 году. Я не знаю имен его наследников и продолжателей — на самого Карпцофа я натолкнулся совершенно случайно — но эти наследники были наверняка. Сколько людей повесили, сожгли или четвертовали они? В Англии, куда Петр направил свои стопы из Саардама, — при одной Елизавете было повешено и казнено другими способами около девяноста тысяч человек. Вся Европа билась в конвульсиях войн, голода, инквизиции и эпидемий — в том числе и психических: обезумевшие женщины Европы сами являлись на инквизиционные судилища и сами признавались в плотском сожительстве с дьяволом. Некоторые местности Германии остались, в результате этого совсем без женского населения. «Европейские народы воспитывались не кнутом и застенками» — говорит Ключевский. Ключевский не мог не знать, что по «Уложению Царя Алексея Михайловича» смертная казнь полагалась за 60 видов преступлений, по современному ему французскому законодательству — за 115, а Петр ввел смертную казнь за двести — это называется «воспитывать без кнута и застенка». Наши историки не могли, конечно, не знать, что наши «застенки» были детской игрушкой по сравнению с западноевропейскими нравами и обычаями. Они не могли не знать, как расправилось шведское правительство с современником Петра — Паткулем, как уже совсем нечеловеческим способом был во Франции в 1757 году казнен отец Дамьен, какая судьба постигла друзей Фридриха — будущего «Фридриха Великого» — казненных четвертованием на глазах юного наследника престола. Да и сам наследник был спасен от судьбы Алексея Петровича только заступничеством иностранных дворов. Так — вот все это называется «воспитанием без кнута и застенка». Застенки были и в Москве. Но вот что пишет об отце Петра — Алексее Михайловиче, посторонний и иностранный наблюдатель — австрийский посол Мейерберг: «Царь, при беспредельной своей власти над народом, привыкшим к полному рабству, ни разу не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Оставим пока «полное рабство» на совести барона Мейерберга: для баронских фантазий в Москве, действительно, особого простора не было, а собственные крестьяне барона Мейерберга едва ли пользовались большей свободой, чем московские. Но, вот, царь «не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь» — может быть, изучать политическую педагогику «без кнута и застенка» было бы удобнее в Москве а не в Саардаме? Историки говорят о московской грязи и об европейской чистоте. Процент того и другого — и в Москве, и в Европе сейчас установить довольно трудно. Версальский двор купался, конечно, в роскоши, но еще больше он купался во вшах: на карточный стол короля ставилось блюдечко, на котором можно было давить вшей. Были они, конечно, и в Москве — больше их было или меньше — такой статистики у меня нет. Однако, кое-что можно было бы сообразить и, так сказать, косвенными методами: в Москве были бани и Москва вся — городская и деревенская, мылась в банях, по крайней мере, еженедельно. В Европе бань не было. И сейчас, больше двухсот лет после Петра, бань в Европе тоже нет. Города моются в ваннах — там, где ванны есть, деревня не моется совсем, не моется и сейчас. В том же городке Темпельбурге, о котором я уже повествовал, на пять тысяч населения имеется одна ванна в гостинице. А когда мой сын однажды заказал ванну для нас обоих — он пришел раньше и вымылся, я пришел позже и администрация гостиницы была искренне изумлена моим требованием налить в ванну чистой воды: истинно русская расточительность — не могут два человека вымыться в одной и той же воде! Петр — в числе прочих своих войн — объявил войну и русским баням. Они были обложены почти запретительным налогом: высшее сословие за право иметь баню платило три рубля в год, среднее — по рублю, низшее — по 15 копеек — одна из гениальных финансовых мер, подсказанная Петру его пресловутыми прибыльщиками. Ключевский пишет: «в среднем составе было много людей, которые не могли оплатить своих бань «даже с правежа под батогами». Даже с правежом и под батогами московская Русь защищала свое азиатское право на чистоплотность. На чистоплотность, вовсе неизвестную даже и сегодняшней Европе, не говоря уже об Европе петровских времен. Сказка о сусальной Европе и варварской Москве есть сознательная ложь. Бессознательной она не может быть: факты слишком элементарны, слишком общеизвестны и слишком уж бьют в глаза. И ежели Петр привез из Европы в три раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями, и еще некоторые другие вещи, — то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью, ни капризом Петра: это было европеизацией: живет же просвещенная Европа без бань? — нужно ликвидировать московские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк? — нужно рубить их и в Москве. Европеизация — так европеизация! Европеизацией объясняются и петровские кощунственные выходки. Описывая их, историки никак не могут найти для них подходящей полочки. В Москве этого не бывало никогда. Откуда же Петр мог бы заимствовать и всепьяннейший синод, и непристойные имитации Евангелия и креста и все то, что с такою странной изобретательностью практиковал он с его выдвиженцами? Историки снова плотно зажмуривают глаза. Выходит так, как будто вся эта хулиганская эпопея с неба свалилась, была, так сказать, личным капризом и личным изобретением Петра, который на выдумку был вообще не горазд. И только Покровский в третьем томе своей достаточно похабной Истории России (довоенное издание), — скупо и мельком, сообщая о «протестантских симпатиях Петра», намекает и на источники его вдохновения. Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма. И арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был, попросту, заимствован из лютеранской практики. Приличиями и чувствами меры тогда особенно не стеснялись, и подхватив лютеранские методы издевки над католицизмом, Петр только переменил адрес — вместо издевательств над католицизмом, стал издеваться над православием. Этого источника петровских забав наши историки не заметили вовсе. Первоначальной общественной школой Петра был Кокуй, с его разноплеменными отбросами Европы, попавшими в Москву, на ловлю счастья и чинов. Если Европа в ее высших слоях особенной чинностью не блистала, то что уж говорить об этих отбросах. Особенно в присутствии царя обеспечивавшего эти отбросы от всякого полицейского вмешательства. Делали — что хотели. Пили целыми сутками — так, что многие помирали. И не только пили сами — заставляли пить и других, так что варварские москвичи бежали от царской компании, как от чумы. Пили, конечно, и в Москве: «веселие Руси...» Но, если исключить Ивана Грозного, с его тоже революционными методами действия, то о пьянстве в Московском Кремле мы не слышали ничего. Там был известный «чин». И когда московские цари принимали иностранных послов, то царь подымал свой бокал за здоровье послов, и их монархов — но это не было ни пьянством, ни запоем. О состоянии уровня трезвости в современной Петру Европе, у меня, к сожалению, особенных данных нет. Есть случайная отметка москвича, путешествовавшего по Европе и отмечавшего, что, например, немцы «народ дохтуроватый, а пьют вельми зело». «Вельми зело» — указывает на некоторую степень изумления: вероятно, что в Москве пили или только «вельми», или только «зело» — в Германии и вельми, и зело. Но для более позднего периода некоторые свидетельства имеются. Сто лет после Петра — при Александре I наш посол в Лондоне граф Воронцов доносил своему правительству о коронованных попойках, на которых, «никто не вставал из-за стола, а всех выносили». Именно в то же время английский король Георг пришел на свою собственную свадьбу в столь пьяном виде, что не мог стоять на ногах и придворные во время всей церемонии держали его под руки. Пьянствовала ли вся Европа? Ну, конечно, нет. В подавляющем большинстве случаев, массы не имели не только вина, но и хлеба. В братоубийственных феодальных войнах, которые велись руками наемных солдат — население подвергалось грабежу не только со стороны «чужих», но и со стороны «своих». Еще армии Фридриха Великого были бичом для собственного прусского населения. Наемная армия, — наемной армией была и фририховская, — не имела никаких моральных оснований быть боеспособной — отсюда и та палочная дисциплина, которая, к удивлению Фридриха Великого, заставляла солдата бояться капральской палки больше, чем неприятельского штыка. Отсюда та палочная дисциплина в армии, которую и у нас ввел Петр и ликвидировали только Потемкин, Румянцев и Суворов, позже она была восстановлена поклонником Фридриха — Павлом I. В Германии, перед Второй мировой войной, еще били гимназистов. Не было «телесных наказаний» в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались, как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет восемьдесят тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей — приводили к скандалам: иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами — так что русские варвары были оставлены в покое. Все это было в средней Европе. В южной было еще хуже, в особенности в Италии и Испании — вспомним, что последний случай аутодафе — публичного сожжения живого еретика — относится к 1826-му году. Вспомним и христианские развлечения римских Пап, — театральные спектакли, от которых, по выражению Покровского, краснели соотечественники Рабле — французские дипломаты. Редкий случай дипломатической стыдливости. На этих представлениях актеров слуги схватывали за руки и за ноги и били животом о пол сцены, — так сказать, аплодисменты наоборот... Не нужно, конечно, думать, что в Москве до-петровской эпохи был рай земной или, по крайней мере, манеры современного великосветского салона. Не забудем, что пытки, как метод допроса и не только обвиняемых, но даже и свидетелей, были в Европе отменены в среднем лет сто-полтораста тому назад. Кровь и грязь были в Москве, но в Москве их было очень намного меньше. И Петр, с той, поистине, петровской «чуткостью», которую ему либерально приписывает Ключевский — вот и привез в Москву: стрелецкие казни, личное и собственноручное в них участие — до чего Московские цари, даже и Грозный, никогда не опускались; привез Преображенский приказ, привез утроенную порцию смертной казни, привез тот террористический режим, на который так трогательно любят ссылаться большевики. А что он мог привезти другое? Технику и прочее привозили и без него. Ассамблеи? Нужно еще доказать, что принудительное спаивание сивухой — всех, в том числе и женщин, было каким бы то ни было прогрессом, по сравнению хотя бы с московскими теремами — где москвички, впрочем, взаперти не сидели — ибо не могли сидеть: московские дворяне все время были в служебных разъездах, и домами управляли их жены. Отмена медвежьей травли и кулачного боя? Удовольствия, конечно, грубоватые, но чем лучше их нынешние бои быков в Испании или профессиональный бокс в Америке? Состояние общественной морали в Москве было не очень высоким — по сравнению — не с сегодняшним, конечно, днем, а с началом двадцатого столетия. Но в Европе оно было на много ниже. Ключевский, и иже с ним, не знать этого не могли. Это — слишком уж элементарно. Как слишком элементарен и тот факт, что государственное устройство огромной Московской Империи было неизмеримо выше государственного устройства петровской Европы, раздиравшейся феодальными династическими внутренними войнами, разъедаемой, религиозными преследованиями, сжигавшей ведьм и рассматривавшей свое собственное крестьянство, как двуногий скот — точка зрения, которую петровские реформы импортировали и в нашу страну. Сказка о сусальной Европе и о варварской Москве является исходной точкой, идеологическим опорным пунктом для стройки дальнейшей исторической концепции о «деле Петра». Дальше я постараюсь доказать, как одна легенда и фальшивка, громоздясь на другую легенду и фальшивку, создали представление, имеющее только очень отдаленное отношение к действительности. Это, мне кажется, будет не очень трудно. Значительно труднее — объяснить двухсотлетний ряд «идеологических надстроек» над действительностью, — окончившихся коммунистической революцией. Или, во всяком случае, это объяснение трудно сформулировать с той же наглядностью, с какою можно доказать полнейшее несоответствие петровской легенды самым элементарным и самым общеизвестным историческим фактам. |
|
© 2000 |
|