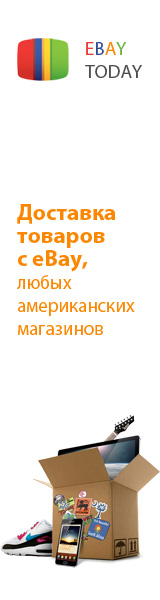|
РУБРИКИ |
Последний приют поэта (о Лермонтове) |
РЕКЛАМА |
||
|
Последний приют поэта (о Лермонтове)«Весь лермонтовский кружок, несколько товарищей кавказцев и два-три петербургских туза собрались в один из прелестных июньских вечеров и от нечего делать метнули банчишко… Я не играл, но следил за игрою. Метали банк по желанию: если разбирали или срывали, банкомет оставлял свое место и садился другой. Игра шла оживленная, но не большая, ставились рубли и десятки, сотни редко. Лермонтов понтировал. Весьма хладнокровно ставил он понтерки, гнул и загибал: «на пе», «углы» и «транспорты» и примазывал «куши». При проигрыше бросал карты и отходил. Потом, по прошествии некоторого времени, опять подходил к столу и опять ставил. Но ему вообще в этот вечер не везло. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта А.С. Пушкина, бывший в то время на водах. Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, где сидели в то время не игравшие в карты князь Владимир Сергеевич Голицын, с которым поэт еще не расходился в то время, князь Сергей Васильевич Трубецкой, Сергей Дмитриевич Безобразов, доктор Барклай де Толли, Глебов и др., перекинулся с ними несколькими словами, закурил трубку и, подойдя к Столыпину, сказал ему: «Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник!» Столыпин подал. Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выбросил одну, накрыл ее бумажником и с увлечением продекламировал: В игре, как лев, силен Наш Пушкин Лев, Бьет короля бубен, Бьет даму треф. Но пусть всех королей И дам он бьет: «Ва-банк!» – и туз червей Мой – банк сорвет! Все маленькое общество, бывшее в тот вечер у Лермонтова, заинтересовалось ставкой и окружило стол. Возгласы умолкли, все с напряженным вниманием следили и ждали выхода туза. Банкомет медленно и неуверенно метал. Лермонтов курил трубку и пускал большие клубы дыма. Наконец, возглас «бита!» разрешил состязание в пользу Пушкина. Лермонтов махнул рукой и, засмеявшись, сказал: «Ну, так я, значит, в дуэли счастлив!» Несколько мгновений продолжалось молчание, никто не нашелся сказать двух слов по поводу легкомысленной коварности червонного туза, только Мартынов, обратившись к Пушкину и ударив его по плечу, воскликнул: «Счастливчик!» Между тем Михаил Юрьевич, сняв с карты бумажник, спросил банкомета: «Сколько в банке?» – и, пока тот подсчитывал банк, он стал отпирать бумажник. Это был старый сафьянный, коричневого цвета бумажник, с серебряным в полуполтинник замком, с нарезанным на нем циферблатом из десяти цифр, на одну из которых, по желанию, замок запирался. Повернув раза два-три механизм замка и видя, что он не отпирается, Лермонтов с досадой вырвал клапан, на котором держался запертый в замке стержень, вынул деньги, швырнул бумажник под диван[11] и, поручив Столыпину рассчитаться с банкометом, вышел к гостям, не игравшим в карты, на балкон. Игра еще некоторое время продолжалась, но как-то неохотно и вяло и скоро прекратилась совсем. Стали накрывать стол. Лермонтов, как ни в чем не бывало, был весел, переходил от одной группы гостей к другой, шутил, смеялся и острил. Подойдя к Глебову, сидевшему в кабинете в раздумье, он сказал: «Милый Глебов, Сродник Фебов, Улыбнись, Но на Наде[12], Христа ради, Не женись!» Глебов Михаил Павлович, или, как его ласково звали товарищи, Мишка Глебов, розовый красавец, поручик конной гвардии, поехал на Кавказ в числе гвардейских охотников. С Лермонтовым сблизился в 1840 г., во время экспедиции. В бою при Валерике был ранен в руку. Летом 1841 г. лечился в Пятигорске. В «Домике» был свой человек, жил рядом, в одном доме с Мартыновым. К Лермонтову был нежно привязан. Поэт платил ему искренним, теплым чувством. Как ни насыщена была жизнь в «Домике» серьезными беседами, спорами, разного рода развлечениями, Лермонтов находил время для чтения и работы. Он привез «множество книг». В письме просил бабушку прислать ему еще книги, в том числе собрание сочинений Жуковского и «полного Шекспира по- английски». Видеть поэта за работой удавалось немногим. Он любил писать рано, когда никто из товарищей еще не приходил и Столыпин не выходил из спальни. Днем Михаил Юрьевич писал только изредка. «Писал он больше по ночам или рано утром, – рассказывал Мартьянову Христофор Саникидзе. – Писал он всегда в кабинете, но случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек». Все бывавшие в «Домике» знали, конечно, что Лермонтов пишет, но не все считали это серьезным занятием, работой. Потому-то и вспоминали поэта главным образом как участника развлечений, выдумщика на шалости и шутки, рисовальщика карикатур. Говорил же, например, Арнольди, что тогда все писали, и что писали не хуже Лермонтова, и что никто этому не придавал значения, причем говорил в 1881 г., когда Лермонтов уже давно был признан гениальным поэтом, когда в Петербурге был открыт музей его имени. Арнольди даже назвал Висковатову Лермонтова поэтом неважным. «...Я видел не раз, как он писал, – рассказывал Арнольди Висковатову. – Сидит, сидит, изгрызет множество карандашей или перьев и напишет несколько строк. Ну, разве это поэт?..» Эмилия Александровна Шан-Гирей тоже сознавалась, что они не видели в Лермонтове ничего особенного, хотя позднее она утверждала, что «творениями Лермонтова всегда восхищалась». Вот и Васильчиков говорил Висковатову: «Для всех нас он был офицер – товарищ, умный и добрый, писавший прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры». A литературным планам поэта, его мечте – основать журнал, товарищи просто не придавали серьезного значения. В разговоре с Висковатовым В. Соллогуб, например, откровенно сознался, что планы эти он считал «фантазиями». После Лермонтова остались в «Домике» семь «собственных сочинений покойного на разных лоскуточках бумаги», как записано в описи его вещей. Эти сочинения утрачены безвозвратно. Но поэт писал, по счастью, не только на «лоскуточках бумаги». Он привез с собой альбом в коричневом переплете, подаренный ему В.Ф. Одоевским с такой надписью: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский, 1841 г. Апреля 13, СПБ». Альбом был солидный – в 254 листа, в мягком переплете. На 26 листах написаны до приезда в Пятигорск: «Утёс», «Сон», «Спор» и в «Домике»: «Они любили друг друга», «Тамара», «Свидание», «Листок», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк». Под каким настроением был написан «Листок»? Комментаторы произведений Лермонтова замечали, что образ листка, символ изгнанника, был распространен в поэзии XIX века. Как будто только потому и появилось это стихотворение… Да ведь в этом листке, оторванном от ветки родимой, образ самого поэта. Это он, Лермонтов, был неожиданно вырван из Петербурга, где, как свидетельствуют многие его современники, он был любим и балован в кругу близких, где его понимали и ценили. Какие у него были думы, когда он шагал из угла в угол по своему кабинету в «Домике»? Можно только догадываться, с каким настроением вышел он поздним вечером из ворот усадьбы и шел по дороге вокруг Машука. Какое несоответствие было в этой тихой лунной ночи, голубом сиянье звезд, аромате трав, стрекоте бесчисленных цикад – с тем тревожным состоянием духа, которое вызывал в нем враждебный мир. Не вспомнились ли поэту его собственные строчки из «Валерика»: ...Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он – зачем? Быть может, в такую ночь и родились стихи «Выхожу один я на дорогу». Лермонтов записал это стихотворение на 22-й странице альбома: 1 Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит. 2 В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом… Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем? 3 Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! 4 Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь. 5 Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел. Это стихотворение сразу, уже в 40-х годах прошлого столетия, вошло в народную поэзию. Именно как народная песня, без упоминания автора, стихотворение исполнялось в столичных гостиных и на деревенских посиделках, у монастырских стен и в тюремных камерах, мастеровыми у станка и слепцами на базарных площадях. Его и сейчас, как народную песню, поют и заслуженные артисты в концертах и молодежь на гуляньях. И где бы, кто бы его ни пел – оно всегда волнует до слез. Каким надо быть великим мастером, чтобы так волновать человеческие сердца! А разве не знаменательно, что строки именно этого стихотворения, в которых так полно, с такой художественной силой выражено чувство слияния с природой, вспомнил во время своего космического полета советский космонавт Герман Титов. Если бы только одно это стихотворение было написано в «Домике», то и тогда стены его были бы священны. Но здесь же, в этих стенах, написаны еще и другие произведения – свидетельства кипучей деятельности гения. Вся внутренняя жизнь Лермонтова, наполненная думами о судьбах родины, о призвании поэта и его трудных путях, страстным стремлением к деятельности, отразилась в последних сочинениях поэта, написанных в «Домике». Художественную ценность этих последних стихов Лермонтова с изумительным мастерством определил Белинский: «...тут было все – и самобытная живая мысль, одушевлявшая обаятельно-прекрасную форму, как теплая кровь одушевляет молодой организм и ярким свежим румянцем проступает на ланитах юной красоты; тут была и какая-то мощь, горделиво владевшая собой и свободно подчинявшая идее своенравные порывы свои; тут была и эта оригинальность, которая в простоте и естественности открывает собою новые, дотоле неведомые миры, и которая есть достояние одних гениев; тут было много чего-то столь индивидуального, столь тесно связанного с личностью творца… Тут нет лишнего слова, не только лишней страницы; все на месте, все необходимо, потому что все перечувствовано, прежде чем сказано, все видено, прежде чем положено на картину…» Последнее свое стихотворение Лермонтов назвал «Пророк»: С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья; В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи; Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня, Лучами радостно играя. Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо, То старцы детям говорят С улыбкою самолюбивой: «Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что бог гласит его устами! Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм, и худ и бледен! Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!» Когда, в какие дни и часы написано это стихотворение? Вначале запись сделана карандашом, как раздумье, как доверенные бумаге мысли. Потом оно переписано чернилами. Может быть, это было уже в последние дни перед дуэлью? Ведь после этого поэт больше ничего не написал… В альбоме Одоевского остались чистыми 228 страниц! «Пророк» – итог недолгой жизни Лермонтова и совсем краткой его литературной деятельности. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. – завещал Пушкин. Следуя этому завету, 22-летний Лермонтов начал поэтическое поприще обличением великосветских убийц своего великого учителя. Стихотворение «Смерть поэта» прозвучало по всей России, как «колокол на башне вечевой». «Чересчур вольнодумное», по мнению даже некоторых расположенных к поэту лиц, оно зажигало сердца людей гневом и ненавистью к «палачам свободы». За смелое выступление Лермонтов поплатился ссылкой. Своего оружия поэт, однако, не сложил. И не только не сложил, а беспрерывно оттачивал его. И вот итог – новые ссылки... смертный приговор. Лермонтов трезво оценивал действительность, но изменять своего трудного пути не собирался. Почти перед самой дуэлью он говорил о задуманных больших работах. За несколько дней до дуэли в «Домик» зашел товарищ поэта по пансиону и московскому университету – Николай Федорович Туровский. «...Увлеченные живою беседой, мы переносились в студенческие годы, – записал в своем дневнике Туровский. – Вспоминали прошедшее, разгадывали будущее… Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг». А как горячо беседовал поэт с профессором Дядьковским об английском материалисте Бэконе, о Байроне. Кто бы из товарищей, постоянно бывавших в «Домике», поверил, что Мишель, всегда такой веселый, добрый, ласковый, часто насмешливый, способный прямо-таки на детские шалости, – живет такой сложной внутренней жизнью? Что ему и больно, и трудно? Ну, а если он так сказал, значит, так и было: он никогда не лгал ни в жизни, ни в искусстве. Только чувства свои и настроения поэт глубоко прятал даже от дружески расположенных к нему лиц. Лишь случайно подсмотрел «чрезвычайно мрачное» лицо поэта один из кавказских его знакомых, встретив на улице Пятигорска незадолго до дуэли. На Кавказе, так им любимом и так прославленном, Лермонтову, в условиях ненавистной военщины, нечего было ждать. Поэт понимал это и все-таки не переставал надеяться. В последнем письме, написанном в «Домике» за две недели до поединка, Лермонтов писал бабушке: «То, что Вы мне пишете о словах г(рафа) Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам». Так и не узнал поэт, последнее распоряжение царя, которое обрекало его на неизбежную гибель. V Некоторые свидетели последних дней жизни поэта уверяли, что Верзилины устроили 13-го июля для Лермонтова и Столыпина прощальный вечер: друзья перебирались в Железноводск. Там для них уже была приготовлена квартира и взяты билеты на ванны. Падчерица генерала Верзилина, Эмилия Александровна, впоследствии вышедшая замуж за троюродного брага Лермонтова – Акима Павловича Шан-Гирея, сохранила в памяти все подробности этого вечера. Да и можно ли было забыть то, что явилось прелюдией к трагическому концу поэта? Эмилии Александровне приходилось несколько раз выступать в печати с рассказом об этом вечере. А сколько раз она рассказывала о нем в той самой комнате, где все происходило! Сидела она на том же диване, на котором сидела с Лермонтовым. Вот ее рассказ: «13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собранье, а провести вечер дома, находя это приятнее и веселее. Я не говорила и не танцовала с Лермонтовым, потому что и в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «М-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la derniere fois de ma vie»[13]. «Ну уж так и быть, в последний раз, пойдемте». М.Ю. дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык a qui mieux mieux[14]. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его montagnard au grand poignard[15]. (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом: он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я Вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: язык мой враг мой, М.Ю. отвечал спокойно: Се n'est rien; demain nous serons bons amis.[16] Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были уехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что, когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначили день». Тогда ли, у порога верзилинского дома, был назначен день дуэли, или о нем договорились секунданты позднее – неизвестно. Дуэль неизбежна, вот что поняли все в кружке Лермонтова, хотя серьезно к вызову Мартынова почти никто не отнесся. Такое впечатление вынес профессор Висковатов, беседуя со свидетелями последних дней поэта. «Ближайшие к поэту люди так мало верили в возможность серьезной развязки, что решили пообедать в колонии Каррас[17] и после обеда ехать на поединок. Думали даже попытаться примирить обоих противников в колонии у немки Рошке, содержавшей гостиницу. Почему-то в кругу молодежи господствовало убеждение, что все это шутка, – убеждение, поддерживавшееся шаловливым настроением Михаила Юрьевича. Ехали скорее, как на пикник, а не на смертельный бой», – писал Висковатов. Васильчиков в разговоре с биографом тоже говорил, что участники дуэли «так несерьезно глядели на дело, что много было допущено упущений». Вспоминая через 31 год – в 1872 г. – преддуэльную обстановку, он утверждал: «Мы (Столыпин и Глебов, – Е.Я.) считали эту ссору столь ничтожной, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Даже в последнюю минуту, уже на месте поединка, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут ужинать». А как же сам поэт относился к предстоящей дуэли? «Шаловливое» настроение, конечно, совсем не отражало его внутреннего состояния. Вспоминала же Катенька Быховец – она в день дуэли провела в обществе Лермонтова несколько часов, – что поэт «при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил». Михаил Юрьевич часто заговаривал в последние месяцы о своей близкой смерти. Еще в Петербурге, зимой этого же года, он в кругу друзей говорил, что скоро умрет. В Москве, возвращаясь на Кавказ продолжать ссылку, поэт говорил Ю.Ф. Самарину «о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов». А всего за неделю до дуэли Лермонтов говорил своему товарищу по юнкерской школе П.А. Гвоздеву: «Чувствую, мне очень мало осталось жить». Как видно, мысль о смерти преследовала его в последнее время. Но разве он хотел умереть? Ведь в те же самые дни, когда поэт говорил о скорой смерти, он делился с друзьями планами о своих литературных работах, в эти же дни развивал мысль об издании журнала. «Мы в своем журнале, – говорил он, – не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное». А разговор о будущем с Туровским, а философские беседы с Дядьковским – ведь и они служат подтверждением его жажды деятельности, жажды жизни, полной литературных интересов. Все говорит о том, что поэт далек был от мысли заснуть «холодным сном могилы». Не хотел Лермонтов смерти, но не думать о ней не мог. Судьба Пушкина не забывалась. Нам не суждено узнать, что думал и что пережил Михаил Юрьевич в последнюю ночь, проведенную в «Домике». Но при мысли об этой ночи вспоминаются строки из дневника Печорина: «И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно». «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные»… Пуля сразила поэта именно тогда, когда он чувствовал в себе «силы необъятные», понимал, зачем живет, «для какой цели родился». VI Как же происходила дуэль? Сохранилось два свидетельства о трагедии разыгравшаяся 15 июля 1841 г. у подножия Машука: официальное донесение коменданта Ильяшенкова командующему войсками на Кавказской линии – генерал- адъютанту Граббе и воспоминания Васильчикова, которые и послужили профессору Висковатову материалом дня описания дуэли в его труде «Михаил Юрьевич Лермонтов – Жизнь и творчество». В течение трех лет (1879-1881) профессор собирал материал для биографии Лермонтова. К этому времени оставался в живых только один из участников дуэли, князь Васильчиков. Васильчиков в личной беседе с Висковатовым изложил события подробнее, чем комендант. Комендант доносил: «Сего года 15-го числа подсудимые (Мартынов, Глебов, Васильчиков – Е.Я.) и с ними Тенгинского полка поручик Лермонтов, по полудни в шесть с половиной часов, из квартир своих отправились по дороге, ведущей в Николаевскую колонию и, отъехав от города не более 4-х верст, остановились при подошве горы Машук, между растущего кустарника, на поляне, где привязав за деревья своих лошадей (Мартынов, Лермонтов и Васильчиков верховых а Глебов запряженную в беговых дрожках) и из них корнет Глебов, и князь Васильчиков размерили вдоль по дороге барьер расстоянием на 15 шагов, поставив на концах онаго свои фуражки, и отмерили еще от оных в обе стороны по10-ги шагов, потом, зарядив пару пистолетов отдали ссорившимся майору Мартынову и поручику Лермонтову сии, пришед на намеченные места, остановились и потом, по сделанному знаку корнетом Глебовым приблизясь к барьеру, майор Мартынов выстрелом своим ранил поручика Лермонтова, который в то же время от этой раны и помер, не успев даже произвести выстрела по Мартынове» (Ракович) А вот как описал Висковатов 15-е июля 1841 года. «День был знойный, удушливый, в воздухе чувствовалась гроза. На горизонте белая тучка росла и темнела. Около 6 часов прибыли на место. Мартынов стоял мрачный, со злым выражением лица, Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шашку, сказав: «Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил пространство. Затем противникам были вручены заряженные пистолеты, и они должны были сходиться по команде: «Сходись!». Особенного права на первый выстрел по условию никому не было дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на ходу, но непременно между командою: два и три. Командовал Глебов… «Сходись!» – крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов оставался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, «по всем правилам опытного дуэлиста». Висковатов приводит далее показание князя Васильчикова: «В эту минуту, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета». «Раз... Два... Три...» командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я отлично помню, – рассказывал князь Васильчиков, – как Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл стрелять по-французски! В это время Столыпин крикнул: «Стреляйте или я разведу вас!»... Выстрел раздался, и Лермонтов упал, как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые. Мы подбежали... В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь». «В смерть не верилось, – продолжал повествование Висковатов. – Как растерянные стояли вокруг павшего... Глебов сел на землю и положил голову поэта к себе на колени. Тело быстро холодело». Доктора на месте поединка не было. За ним поехал Васильчиков. «Между тем в Пятигорске трудно было достать экипаж. Васильчиков, покинувший Михаила Юрьевича еще до ясного определения его смерти, старался привезти доктора, но никого не мог уговорить ехать к сраженному. Медики отвечали, что на место поединка при такой адской погоде они ехать не могут и приедут на квартиру, когда привезут раненого. Действительно, дождь лил как из ведра, и совершенно померкнувшая окрестность освещалась только блистанием непрерывной молнии при страшных раскатах грома. Дороги размокли. С большим усилием и за большие деньги, кажется, не без участия полиции, удалось, наконец, выслать за телом дроги (вроде линейки). Было 10 часов вечера. Достал эти дроги уже Столыпин. Кн. Васильчиков, ни до чего не добившись, приехал на место поединка без доктора и экипажа». «Тело Лермонтова все время лежало под проливным дождем, накрытое шинелью Глебова, покоясь на его коленях. Когда Глебов хотел осторожно спустить ее, чтобы поправиться – он промок до костей – из раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон, и Глебов остался недвижим, мучимый мыслью, что быть может в похолодевшем теле еще «кроется жизнь». «Так лежал неперевязанный, медленно истекавший кровью, великий юноша-поэт», – заканчивает рассказ о дуэли Висковатов. Погиб ли он от потери крови, или смертельная была рана – неизвестно. Вскрытия не было. Наконец появился экипаж... «Поэта подняли и положили на дроги. Поезд, сопровождаемый товарищами и людьми Столыпина, тронулся». Поздно вечером 15 июля вернулся Михаил Юрьевич в «Домик». Так ли все происходило у подножия Машука в 7 часов вечера 15-го июля, как рассказал Васильчиков, трудно сказать, но других свидетельств этого горестного события, к сожалению, нет». Ни Столыпин, ни Трубецкой, ни Глебов ни в письмах, ни в разговорах, ни в воспоминаниях словом не обмолвились о дуэли. Они свято выполняли данную друг другу клятву – не разглашать тайну, молчать о том, чему свидетелями были. Если Глебов рассказал Эмилии Александровне об одиночестве у истекающего кровью друга, – так это был рассказ не о дуэли, а о переживаниях его – Глебова – в ту страшную ночь. Советскими лермонтоведами извлечено из разных архивов немало частных писем тех лиц, которые были тогда в Пятигорске. Свидетельства, отклики на свершившееся, сделанные непосредственно после дуэли, являются ценнейшими документами. Вот что писал, например, московский почт-директор, А.Я. Булгаков, ссылаясь на письмо В.С. Голицына, написанное в Пятигорске тотчас же после дуэли: «Когда явились на место, – где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. Стреляй! Стреляй! – был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил в воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух. Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный, храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца». Ю.Ф. Самарин писал И.С. Гагарину через две недели после дуэли: «Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мной известия. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стреляя почти в упор». В целом ряде других писем корреспонденты упорно утверждали, что Лермонтов выстрелил в воздух, Мартынова дружно именовали «убийцей», исход же дуэли так и толковали, как убийство поэта. Несомненно, письма эти отражали сразу же установившееся в Пятигорске мнение о разыгравшейся драме. На чем основано было такое мнение? Видно, кто-то из секундантов, – как ни старались они держать в тайне случившееся, – все же поделился с кем-то тем, чему был свидетель. Укреплению создавшегося мнения способствовали и условия дуэли. Условия эти, продиктованные Мартыновым, поражают своим несоответствием поводу для вызова на дуэль. В самом деле, поводом послужила ссора «ничтожная и мелочная», как ее определяли все свидетели столкновения Лермонтова с Мартыновым. Условия же дуэли такие, как при самом тяжком оскорблении: пистолеты крупного калибра, право стрелять до трех раз, тогда как в данном случае, то есть при пустячной ссоре, полагалось обменяться по одному выстрелу, и, наконец, ничтожное расстояние между противниками. Но почему же Лермонтов принял эти условия? И как же Столыпин, прекрасно знавший дуэльный кодекс, мог допустить согласие поэта на эти условия? Но, кто знает, может быть, Столыпин и пытался их отклонить. Включил же Висковатов на каком-то основании такие строки в биографию Лермонтова: «Столыпин серьезнее всех глядел на дело и предупреждал Лермонтова, но он по большей части был под влиянием Михаила Юрьевича… и вполне поддавался его влиянию». Надо помнить при этом характер Лермонтова. Ни за что на свете не разрешил бы он своим секундантам поднимать вопрос об изменении условий. Для Лермонтова не имело значения, что условия эти не отвечали тяжести оскорбления. Главное было, что они продиктованы противником. Со своей стороны Лермонтов заявил, что стрелять в Мартынова не будет, а дальше… это было уже дело совести противника. VII Почти двое суток покоилось тело поэта в «Домике». Здесь и зарисовал его на смертельном ложе художник Шведе. 17 июля было произведено освидетельствование тела погибшего поэта. «При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер. В удостоверение чего общим подписом и приложением герба моего печати свидетельствуем. Город Пятигорск, июля 17-го дня 1841 г. Пятигорского военного госпиталя ординатор лекарь титулярный советник Барклай де Толли. При освидетельствовании тела находились: Плац-майор подполковник Унтилов. Заседатель Черепанов. Исполняющий должность окружного стряпчего Ольшанский 2-й. Корпуса жандармов подполковник Кушинников». Этим внешним освидетельствованием ограничились. «Роковая весть быстро разнеслась по Пятигорску, – вспоминала Э.А. Шан- Гирей. – Дуэль – неслыханная вещь в Пятигорске»… В чистой белой рубашке лежал он на постели в своей небольшой комнате, куда перенесли его. Художник Шведе снимал с него портрет масляными красками. Столыпин и друзья, распорядившись относительно панихиды, стали хлопотать о погребении останков, – рассказывал Висковатов. – Ординарный врач Пятигорского военного госпиталя Барклай де Толли выдал свидетельство, в коем говорилось, что «Тенгинского пехотного полка поручик М.Ю. Лермонтов застрелен на поле, близ горы Машука, 15-го числа сего месяца и, по освидетельствовании им, тело может быть передано земле по христианскому обряду». «По христианскому обряду» священники Пятигорска отказались хоронить Лермонтова: «убитый на дуэли приравнивается к самоубийцам, а самоубийца – по статье 347-й уголовных законов – лишается христианского погребения». В местной газете «Сезонный листок» сообщалось: «16 июля собралась масса народу на погребение и панихиду; но священник отказался явиться, ссылаясь на то, что по уставу убитые на дуэли приравниваются к самоубийцам». Много лет спустя священник В. Эрастов вспоминал, что он действительно «отказался от похорон Лермонтова, когда его звал Столыпин». Еще в 1903 г., совсем незадолго до смерти, Эрастов, отвечая на вопрос корреспондента «Варшавского дневника»: – Правда ли, батюшка, что Вы отказались хоронить Лермонтова, – тихо ответил: «Да, правда. Я знаю, что меня за это бранят теперь и в обществе, и во всех журналах, но мог ли я поступить иначе? От святейшего синода было строжайшее запрещение отпевать тело самоубийц и погибших на дуэли». Потом он не раз подтверждал это. «Когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, – вспоминала Э.А. Шан-Гирей. Это был священник Скорбященской церкви Пятигорска Павел Александровский, давший согласие только после вмешательства полковника Траскина. Писарь комендантского управления Карпов рассказывал: «Является ко мне ординарец от Траскина и передает требование, чтобы я сейчас же явился к полковнику. Едва лишь я отворил, придя к нему на квартиру, дверь его кабинета, как он своим сильным металлическим голосом отчеканил: «Сходить к отцу протоиерею, поклониться от меня и передать ему мою просьбу похоронить Лермонтова. Если он будет отговариваться, сказать ему еще то, что в этом нет никакого нарушения закона, так как подобною же смертью умер известный Пушкин, которого похоронили со святостью». Я отправился к Павлу Александровскому и передал буквально слова полковника. Отец Павел подумал- подумал, наконец, сказал: «Успокойте полковника, все будет исполнено по его желанию». Отец Павел, однако, не выполнил всего христианского обряда похорон. Он отслужил панихиду и проводил тело Лермонтова до могилы без отпевания в церкви, как полагалось[18]. …Не было покоя Лермонтову и после смерти. Как будто, он предвидел это, написав в 17 лет: Кровавая меня могила ждет, Могила без молитв и без креста… Похороны состоялись 17 июля. Гроб с телом поэта вынесли из «Домика» на руках четыре товарища покойного и пронесли до самого кладбища. Поручик А.Ф. Тиран был от лейб-гвардии гусарского полка, в котором Лермонтов служил по окончании юнкерского училища. Полковник Безобразов – от Нижегородского драгунского полка, в который Лермонтов был переведен в первую ссылку, А.И. Арнольди – от Гродненского гусарского полка, в котором поэт недолго служил после первой ссылки, Н.И. Лорер – от Тенгинского полка. Воспоминаний непосредственных свидетелей похорон Лермонтова сохранилось много. Н.Ф. Туровский вспоминал: «В продолжение двух дней теснились усердные поклонники в комнате, где стоял гроб. 17-го числа, на закате солнца, совершено погребение. Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождающих их выразили потерю общую, незаменимую». Лечившийся в Пятигорске в 1841 г. Полеводин сообщал другу в письме, написанному на 6-й день после похорон: «Поэта не стало!.. На другой день толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и усыпали его оными, некоторые делали прекрасные венки и клали близ тела покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. 17-го числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб его до самого кладбища несли штаб- и обер-офицера и все без исключения шли пешком до кладбища... Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь 6-й день после этого печального события, но ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу». «Народу было много-много, и все шли в каком-то благоговейном молчании, – рассказывала Э.А. Шан-Гирей. – Это меня поражало, – добавляет она, – ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами». Или вот еще воспоминания очевидца Монаенко: «Трудно себе представить, какое грустное впечатление произвела на всех эта весть. Лермонтов убит. Лермонтов убит, вот что только слышалось на улицах и домах Пятигорска». Очень ценны воспоминания о похоронах Лермонтова коллежского асессора Рошановского. Сохранились эти воспоминания в дошедшем до наших дней «Деле о погребении Лермонтова». «Дело» это возникло по доносу Эрастова на того священника, который «хотя настоящего погребения над телом Лермонтова и не совершил, но не следовало и провожать его... в церковном облачении и с подобающей честью». Рошановского, как присутствовавшего на похоронах, допрашивали следователи, расследовавшие кляузу. «В прошлом 1841 году, в июле месяце, кажется 18 числа, в 4 или 5 часов пополудни, я, – рассказывал Рошановский, – слышавши, что имеет быть погребено тело поручика Лермонтова, пошел, по примеру других, к квартире покойника, у ворот коей встретил большое стечение жителей г. Пятигорска и посетителей Минеральных вод, разговаривавших между собою: о жизни за гробом, о смерти, рано постигшей молодого поэта, обещавшего много для русской литературы. Не входя во двор квартиры сей, я с знакомыми мне вступил в общий разговор, в коем между прочим, мог заметить, что многие как будто с ропотом говорили, что более двух часов для выноса тела покойника они дожидаются священника, которого до сих пор нет. Заметя общее постоянное движение многочисленного собравшегося народа, я из любопытства приблизился к воротам квартиры покойника и тогда увидел на дворе том, не в дальнем расстоянии от крыльца дома стоящего о. протоиерея, возлагавшего на себя епитрахиль. В это самое время с поспешностью прошел мимо меня во двор местной приходской церкви диакон, который тотчас, подойдя к церковнослужителю, стоящему близ о. протоиерея Александровского, взял от него священную одежду, в которую немедленно облачился и принял от него кадило. После этого духовенство это погребальным гласом общее начало пение: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас», и с этим вместе медленно выходило из двора этого; за этим вслед было несено из комнаты тело усопшего поручика Лермонтова. Духовенство, поя вышеозначенную песнь, тихо шествовало к кладбищу; за ним в богато убранном гробе было попеременно несено тело умершего штаб и обер-офицерами, одетыми в мундиры, в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли. Таким образом, эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы, в которую был опущен вскорости несомый гроб без отправления по закону христианского обряда. В этом я удостоверяю, как самовидец; но было ли погребение сему покойнику отпеваемо о. протоиереем в квартире, я этого не знаю, ибо не видел, не слышал и даже тогда не был во дворе том». Что же пережил в стенах «Домика» Столыпин, стоя над умершим другом? Он обещал бабушке беречь ее внука... Как? Какими словами сообщить ей скорбную весть? А как чувствовали себя те, кто разжигал непокорное самолюбие Мартынова? Содрогнулись ли они у гроба поэта? Не вспомнились ли им лермонтовские строки: Летают сны-мучители Над грешными людьми……. VIII Когда Лермонтов зимой 1841 года, будучи в отпуске в Петербурге, получил приказ выехать из столицы в течение 48 часов, поэт, охваченный отчаянием, написал: Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, послушный им народ. Быть может, за стеной Кавказа Укроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей. Но и за стеной Кавказа не укрылся поэт от глаз и ушей своих врагов. Они преследовали его и здесь. Профессор Висковатов встречался со многими современниками Лермонтова, свидетелями его последних дней в Пятигорске. Это происходило через 40-50 лет после трагедии у подножия Машука, но и тогда у некоторых из этих современников враждебные чувства к поэту не смягчились. Висковатов утверждал, что в беседе с ним эти «некоторые из влиятельных личностей», бывшие тогда на водах, говоря о Лермонтове, употребляли такие выражения, как «несносный выскочка», «задира», «ядовитая гадина». Они-то и ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный Лермонтовым из терпения, «проучит» его. Висковатов хорошо изучил преддуэльную обстановку в Пятигорске, и ему удалось выяснить, что «некоторые личности» «искали какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, явилось бы исполнителем задуманной интриги». Да и князь Васильчиков, когда Висковатов задал ему вопрос: «А были подстрекатели?», – не отрицал этого, а ответил уклончиво: «Может быть, и были». Сын генерала Граббе, командовавшего в 1841 г. войсками на Кавказской линии, рассказывал профессору, что слышал от отца, как на дуэль с Лермонтовым провоцировали молодого офицера С.Д. Лисаневича. К Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль, проучить. «Что вы, – возражал Лисаневич, – чтобы у меня поднялась рука на такого человека?» Не так уж, по-видимому, секретно велась интрига против Лермонтова, если о случае с Лисаневичем знал не только генерал Граббе. По крайней мере, этот же провокационный разговор с Лисаневичем передавала Висковатову Эмилия Александровна Шан-Гирей. Мартынова легче было спровоцировать: в его характере не было благородства Лисаневича, он не обладал умом, способным разобраться в интриге. Лермонтова как поэта не ценил, к тому же был тщеславен и самолюбив. Сам по себе Мартынов не был каким-то закоренелым злодеем. Не будь подстрекательства со стороны, судьба, быть может, уберегла бы его имя от тех проклятий, которыми оно сопровождается и поныне. Те добрые отношения, которые существовали между Лермонтовым и Мартыновым в юнкерской школе, ничем не нарушались до последнего времени. На шутки Лермонтова Мартынов если иногда и обижался, то, во всяком случае, не до такой степени, чтобы считать товарища смертельным врагом. Мартынов сам заявил пятигорскому окружному суду, что поединок был случайный, что злобы к Лермонтову он никогда не питал. «Следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться». Итак, никаких других причин, кроме шуток, для вызова на дуэль у Мартынова не было. Позднее Мартынов рассказывал, что «незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков»... Да и слуги, как Лермонтова, так и Мартынова, утверждали, что «оба барина жили между собой дружно, ни ссор, ни каких-либо несогласий между ними не бывало...» Правда, на следствии Мартынов показывал: «с самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где мог он сказать мне что-нибудь неприятное, остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним |
|
© 2000 |
|