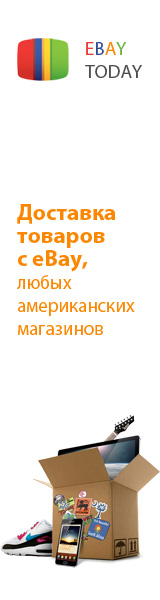|
РУБРИКИ |
Влияние даосизма и буддизма на формирование национальных культурных традиций Китая |
РЕКЛАМА |
||
|
Влияние даосизма и буддизма на формирование национальных культурных традиций Китаязнаменитых буддийских монахов: Дао-аня (312—385) и Хуэй-юаня (337—417), которые внесли свой вклад в дело ассимиляции буддизма в Китае. Они оба испытали влияние Хинаяны, но при этом являлись типичными представителями учения Махаяны в Китае. Дао-ань был знаком со старыми буддийскими формами медитации, но при этом вместе с учениками принимал, участие и в ритуальных практиках. Получив классическое китайское образование, он отвергал синкретический метод гэ-и толкования текстов, при котором светская литература сочеталась с буддийской. Однако при этом он разрешал одному своему ученику — Хуэй-юаню пользоваться даосскими понятиями при толковании буддийского учения. Дао-ань составил комментарий к «Сутре о совершенстве Мудрости в 25000 строках». В его понимании, изначальное ничто (кит. бэнь-у) является «подлинной природой всех явлений, абсолютной подоплекой вселенской истины». Этот переходный период ассимиляции характеризуется безоговорочным принятием учения Махаяны о мудрости, при том, что философская систематизация школы Мадхьямиков оставалась чуждой китайскому сознанию. В 365 г. в Сянъяне Дао-ань обосновал один из крупнейших буддийских монастырей в Китае. Одним из главных обычаев, введенных Дао-анем в практику монастырской жизни было использование знака Ши из китайской транскрипции Гаутамы (Шакья) в качестве фамильного знака для всех монахов, просуществовавшего и до наших дней. Другим вкладом Дао-аня было составление полного каталога китайских переводов индийских сутр (примерно 600 названий). Ему же принадлежат и реформы, проведенные в собственно церковной сфере. Во-первых, это установление особого культа будды грядущего – Майтрейи (Милэфо), получившего в дальнейшем большую популярность в Китае. С приходом Майтрейи многие поколения китайских буддистов связывали свои надежды на лучшее будущее и на всеобщее благоденствие. Не раз вожди китайских крестьянских движений объявляли себя или своих сыновей возродившимися Майтрейями, а культ Милэфо в Китае занимал центральное место в идеологии многих тайных обществ. С распространением буддизма культ Майтрейи занимает важное место в ламаизме, и является (в эзотерической форме) одной из основ мировоззрения семьи Рерихов. После смерти Дао-аня слава наивысшего знатока и авторитета среди буддистов перешла к Хуэй-юаню (334 — 417 гг.). Хуэй-юань, самый выдающийся ученик Дао-аня, принял монашество, но при этом по сути остался аристократом (сначала придерживался конфуцианства, затем увлекся даосизмом и в конце концов остановился на буддизме). Хуэй-юань был блестящим популяризатором буддизма. Благодаря его усилиям гора Лу на берегу реки Янцзы, окутанное легендами священное место, стала знаменитым центром раннебуддийского движения в Китае. Учение Хуэй-юаня почти ничем не отличалось от учения его учителя, но в силу ряда обстоятельств он оказался мужественным защитником буддийской религии. Китаизация буддизма в его деятельности проявилась в установлении культа Будды Запада – Амитабхи, покровителя «Западного рая», «Чистой земли», чем было положено начало китайскому, а затем и японскому амидизму. Страстный поклонник Будды Амитабхи, Хуэй-юань любил использовать в качестве вспомогательных средств для медитации картины и зрительные образы. Считается, что его последователи основали Общество Белого Лотоса. Таким образом, Хуэй-юань традиционно считается основателем и первым патриархом школы Чистой Земли в Китае. Его последователи усиленно занимались медитацией, рассчитывая таким образом обрести отблеск сияния Амитабхи и потусторонней Чистой Земли во время видений и экстатических состояний. Кроме того, Хуэй-юань занимался медитацией, чтобы достичь единства с Абсолютом или источником всего сущего — независимо от того, называть ли его природой, мировой душой или Буддой. «Без проникновения медитация не позволяет достичь полного успокоения, но проникновение без медитации не отражает всей глубины опыта». В медитационной практике Хуэй- юаня, когда он всматривался в пустотность всех вещей, переплетались буддийские и даосские элементы. В даосизме глубина реальности обозначается понятием «изначальное ничто»: та же самая реальность постигается через праджню. Многие мистики китайского буддизма вслед за Хуэй-юанем придерживались практики произнесения имени Будды на каждой стадии их духовного становления, не усматривая при этом никакого противоречия между метафизическим погружением в абсолютную пустоту и предельно зримым, радостным видением рая Амитабхи. Буддизм для низов (народный) быстро стал своего рода разновидностью китайского даосизма. Буддизм впитал местную обрядность, признала культ предков и другие народные культы, включив в свой пантеон как святых древних китайских мудрецов, так и мифических героев. Буддийский монах бок о бок с даосским отправлял несложные обряды, принимал участие в ритуалах и праздниках, охранял буддийские храмы и кумирни, служил культу многочисленных будд и бодхисаттв, все больше превращавшихся в обычных богов и святых. Кроме Майтрейи и Амитабхи, особой популярностью в Китае пользовалась бодхисаттва Авалокитешвара, знаменитая китайская Гуань-инь – богиня милосердия и добродетели, покровительница страждующих и несчастных. Примерно с VIII в., приобретя женское обличье (ранее в Китае, как и в Индии бодхисаттва Авалокитешвара считался мужчиной), Гуань-инь превратилась в богиню покровительницу женщин и детей, материнства, богиню-подательницу детей. Зачислив в свой пантеон многочисленных будд, бодхисаттв и буддийских святых, простой народ в Китае принял в буддизме главное для себя – то, что было связано с облегчением страданий в этой жизни и спасением в жизни будущей. Верхи же китайского общества, и прежде всего его интеллектуальная элита, черпали из буддизма значительно больше. Изучая сутры и занимаясь буддийской практикой, они стремились проникнуть в сущность буддизма, постичь его дух, очистить его основы, изрядно замутненные тысячами последователей со времен Будды. На основе синтеза идей и представлений, извлеченных из глубин буддизма, с традиционной китайской мыслью, с конфуцианским прагматизмом и возникло в Китае одно из самых интересных и глубоких, интеллектуально и духовно насыщенных течений мировой религиозной мысли – чань-буддизм (яп. дзэн). Чань-буддизм: возникновение и основные идеи На протяжении этого периода ассимиляции буддийское учение постоянно приспосабливалось к китайским формам мысли, или же китайская ментальность включалась в буддийскую религию. Такие буддийские понятия, как праджня, татхата (таковость) и бодхи (просветление) были переделаны на китайский лад, а Махаяна восприняла чисто китайское понятие у-вэй (не-деяние). Но самые глубокие корни, обнаруживающие удивительную внутреннюю близость основных идей буддизма и даосизма, предполагали натуралистический взгляд на мир и человеческую жизнь, которым, в равной степени, вдохновлялись махаянистские сутры, Чжуан-цзы, Лао-цзы и другие китайские мыслители. В духовной атмосфере Китая имелись более благоприятные условия для дальнейшего развития натуралистических элементов буддизма Махаяны, чем это было даже на родине — в Индии. Там, где индийцев сковывала мучительная борьба за спасение, китайцев, которым просто хотелось постичь тайны природы, привлекал даосско-буддийский натурализм. Как уже отмечалось, даосизм сыграл центральную роль в принятии китайцами буддизма. Признание близкого родства между этими двумя религиями на ранней стадии становления китайского буддизма, помогает нам лучше понять, как впоследствии даосское влияние на буддизм привело к возникновению чань-буддизма. Легенды, в которых появление буддизма в Китае связывается с символической фигурой Лао-цзы, имеют лишь второстепенное значение. Более значительными представляются связи между все возраставшим буддийским движением и даосизмом, которые сложились в конце эпохи Хань. Медитация в самых разных формах проникла в религиозные практики на всех уровнях общества, но сильнее всего оказалась связь между буддизмом махаянистских сутр и даосским учением о мудрости. «Даосское обличие», которое принял буддизм, не оставалось чисто внешним, а оказало решающее воздействие на буддийскую мысль. Эта встреча с духовным наследием древнего Китая явилась источником, питавшим разные школы китайского буддизма, которые при всех доктринальных различиях были тесно связаны друг с другом. По мере развития чань-буддизма этот источник превратился в могучий поток. Это вовсе не означает, что возникновение школы Чань можно объяснить просто как более или менее плодотворное соединение элементов буддизма и даосизма. Правильней будет сказать, что сформировавшееся при династии Тан движение явилось новым проявлением творческой энергии, присущей китайскому буддизму, которая достигла такого уровня, что позволила сформироваться уникальной медитативной школе Махаяны, каковой и является чань-буддизм. Чань-буддизм возник в форме эзотерической секты. Название «чань» является сокращением от «чань-на» – санскр. «дхиана» (сосредоточение, медитация, глубокое созерцание). Древнее буддийское направление – школа дхиана – призывала своих последователей чаще отрешаться от внешнего мира и следуя древнеиндийским традициям погружаться в себя, концентрировать свои мысли и чувства на чем-либо одном, сосредотачиваться и уходить в бескрайние глубины сущего. Целью дхианы было достижение «транса» в процессе медитации, т.к. именно в состоянии «транса» человек может дойти до затаенных глубин и найти прозрение, истину, как это случилось с самим Гаутамой Шакьямуни под деревом Бо. Легенда повествует, что чань-буддизм возник в Китае после того, как туда переселился из Индии в начале века знаменитый Двадцать восьмой патриарх индийского буддизма Бодхидхарма, положивший начало новой секте - чань. Учению чань были присущи трезвость и рационализм китайцев, которые оказались напластованы на глубочайшую мистику индо-буддизма. Особенностью чаньской традиции стало учение о «внезапном просветлении» (дунь у). Некоторые исследователи расценивают это положение, как возможность достичь просветления и освобождения без длительного восхождения по пути самосовершенствования. Это было бы слишком просто. Лучше всего было бы сравнить «внезапное просветление» с прорывом плотины, в которую в течение долгого времени собиралась вода. «Внезапное озарение» представляет собой качественный скачок – результат длительных духовных усилий и стремлений адепта. При этом нужно помнить: «На пути нет хоженых троп. Тот, кто идет им, одинок и в опасности». Ежедневная медитация (в том числе и при выполнении хозяйственных работ) - основа религиозной практики чань. Основоположники чань, развивая тезис махаяны о тождестве сансары и нирваны, отказывались противопоставлять медитативное состояние прочим формам человеческой деятельности. «Обыкновенное сознание – это и есть истина», - гласит один из главных постулатов чань. В связи с положением чань-буддизма о тождестве сансары и нирваны можно привести следующий диалог учителя и ученика из рассказа Х.Л.Борхеса «Роза Парацельса»: «Парацельс взял розу и, разговаривая, играл ею. - Ты доверчив, – повторил он. – Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее? - Каждый может ее уничтожить, – сказал ученик. - Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь. Что возможен возврат к небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в Раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку? - Мы не в Раю, – настойчиво повторил юноша, – здесь, под луной, все смертно. Парацельс встал. - А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что- то, помимо Рая? Понимаешь ли ты, что Грехопадение – это неспособность осознать, что мы в Раю?» Различают четыре основных принципа чань: «Не твори письменных поучений», «Передавай традицию вне наставлений», «Прямо указывай на человеческое сердце», «Прозревай природу и становись Буддой». В отличие от прочих школ буддизма в монастырях чань большое значение придавалось совместному физическому труду (не прекращая внутренней практики). Чань – это образ жизни, открытый озарению; стиль жизни, ведущий к измененному сознанию, к экстатическом приятию цельности мира. С VI и по XX в. чань сохраняет неизменное ядро: упор на непосредственном опыте. Никаких обещаний будущей жизни; то, что может быть достигнуто, должно быть достигнуто сегодня, сейчас. Никаких метафизических идей: пустое зеркало, отражающее события такими, какими они были. Каждое суждение, жест, поступок имеет смысл только в единичной неповторимой обстановке. Слово – только намек на истину, лежащую по ту сторону слов. Поэтому учение можно передать только «от сердца к сердцу». Когда Бодхидхарма пришел в царство южного императора У, тот спросил его: - Что является первым принципом святого учения? - Безграничная пустота, и в ней ничего святого, царь! - Кто же тот, кто сидит передо мной? - Я не знаю! «Я не знаю» проходит красной нитью через всю историю чань, снова и снова возникая в чаньских диалогах, в стихах. Все секты чань пренебрежительно относятся к книжной мудрости. Наряду со священным писанием, релятивированы обряды и традиционные формы монашеского усердия. Патриарх чань-буддизма Линь Цзи (IX в.) говорил: «Никто еще не представал передо мной в своем одиночестве, свободе и неповторимости. Уже лет десять я тщетно жду такого человека. Я говорю вам: нет будд, нет священных книг… Что вы ищете в доме своего соседа? Слепцы! Вы пытаетесь пришить себе вторую голову. Чего вам не хватает в себе?.. Существует некий истинный человек без титула, что скрывается за вашей бледной плотью. Он все время входит и выходит через ваши органы чувств, те, кто не нашел его в себе, смотрите лучше!». Чань ведет к переживанию, в котором снимаются все противопоставления: священное и мирское, конечное и бесконечное, прекрасное и безобразное, добро и зло, жизнь и смерть. Человек, вошедший в поток целостного бытия, скользит над всеми частными помыслами. Этим радикально устраняются все «злые» помыслы. Обращенность к целостности бытия снимает необходимость различать добро и зло. В Целом зла нет. Чувство Целого, озарение может быть достигнуто в самой обыденной обстановке. Поэт Панъюнь писал: Как это удивительно, сверхъестественно! Как это чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова! Со временем в напряженном взаимодействии учителей чань и их учеников стало складываться дзэнское писание. Монахи, ошеломленные странными загадочными вероучениями, записывали их в книжечку, прятали и в тихие минуты перечитывали, еще и еще раз пытались понять. Очень скоро возник первый жанр дзэнского писания, юлу – запись разговоров старца с учениками. Противопоставляя юлу индийскому буддизму, Цзунми (IX в.) писал, что сутры обращены «ко всему живому во вселенной», а юлу эффективнее «для особого рода людей», т.е. для китайцев и других народов дальневосточного культурного круга. Юлу включали в себя проповеди, беседы, отдельные реплики. Впоследствии особую популярность приобрел жанр диалога (вэньда). С XI в. фрагменты диалога (или отдельные вопросы) стали задаваться ученикам как тексты для медитации. Эти тексты получили название гунъань (судебный документ, прецедент, т.е. прецедент просветления; случай вызвавший просветление) (яп. коан). Самый распространенный пример гунъань: «Ты можешь слышать звук двух хлопающих ладоней, – сказал учитель. – Покажи мне как звучит одна». А вот замечательный пример чаньской истории: «Всякий раз, когда наставника Цзюйди спрашивали, что такое чань, он в ответ поднимал палец. Один юный послушник в подражание ему тоже стал поднимать палец, когда его спрашивали, чему учит его учитель. Услыхав об этом, Цзюйди взял нож и отрубил послушнику палец. Тот закричал от боли и побежал прочь. Цзюйди окликнул его и, когда он обернулся, снова поднял палец. В этом миг послушник внезапно достиг просветления. Когда Цзюйди покидал этот мир, он позвал учеников и сказал: «Я получил «чань одного пальца» от моего учителя Тяньлуна и за всю свою жизнь не смог исчерпать его смысл». С этими словами он ушел из жизни». Переход к гунъань связан с известным снижением уровня чань. В эпоху сражающихся царств ученики не имели надобности в ритуальных загадках: учитель был живой загадкой и живым примером. Так жила и паства апостола Павла, уподобляясь ему, как он – Христу; каждый проповедовал, пророчествовал, «говорил языками», насколько умел. Но по мере того, как число адептов увеличивалось, а энергия учителей снижалась, возникла необходимость в эталонах истины. Первые века учения превратились в классику закрепленную писанием и обрядом. Особенность чань в том, что он от каждого ученика требует войти в эту классику с такой полнотой, как Франциск Ассизский вошел в страсти Христа – до язв в ладонях. И еще в одном: чань внутри сложившегося культа сохранил известный простор для импровизации. Его канон – это канон внутреннего состояния, без всяких внешних рамок. Видимо, потому чань оказался таким плодотворным для искусства. Расцвет школы чань связывается с именем Шестого чаньского патриарха Хуэйнэна (637-713 гг.), основателя так называемой южной ветви чань, при котором чань стала одним из ведущих философских учений Китая. Со временем школа чань потеряла свои позиции в Китае. Не поздней, чем в эпоху Мин, история Чань в Китае, представлявшаяся как передача сознания вне письменных источников от Бодхидхармы, подошла к завершению. Правда и после Сун встречались первоклассные чаньские наставники, которые вели своих учеников к просветлению по проверенному пути. Но в целом упадок был очевидным. При отсутствии подлинно творческих личностей все движение начало хиреть. Причины политического и социального характера, которым историки объясняют общий упадок буддизма в Китае, в значительной степени распространяются и на Чань. В простонародном буддизме последующих веков, где основное место отводилось культу Будды Амитабхи, Чань – в силу своей несколько элитарной природы – мог продолжать существовать только за счет отказа от некоторых из своих принципов. Тем не менее, Чань продолжал оставаться движущей силой в рамках буддизма благодаря тому, что своевременно распространился из Китая в другие страны. Чань, вместе с другими направлениями буддизма, пустил корни в Корее и Вьетнаме и пользовался там большим успехом, особенно в сунскую эпоху. Несравненно более длительным и сильным были позиции Чань в Японии (дзэн). Там начинается второй этап истории Чань, не менее значительный, чем его история в Китае, и именно оттуда в наши дни от японских берегов начал он распространяться по всему свету. «Развитие гротеска в поведении и искусстве. Пафос выворачивания ценностей наизнанку, антиинтеллектуализм и высокая оценка физического труда, психотехника ошеломления» – так чань характеризует японский исследователь Р.Сасаки. Буддизм и культурные достижения Китая «В чем суть буддизма?» «Пока не постигните, не поймете». Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия. За это время он сильно изменился в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы, изящные, порой ажурные и всегда великолепные по своей художественной цельности пагоды придавали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, а также пещерные комплексы, которые были созданы еще в III-VI вв. и сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В комплексах Лунмэня, Юньгана и Дуньхуана органической частью архитектуры явились фрески, барельефы и особенно круглая скульптура. Искусство круглой скульптуры было известно в Китае задолго до буддизма. Однако именно индо-буддийская скульптура, генетически восходящая к эллинистическо-кушанскому прототипу, с характерными для будд, бодхисаттв и буддийских святых канонами изображений, поз и жестов завоевала популярность и получила наибольшее распространение в Китае. В каждом китайском храме можно встретить скульптурные изображения, техника изготовления и оформления которых так или иначе восходит к индо-буддийской. Вместе с буддизмом пришла в Китай и практика скульптурного изображения льва – животного, которое в Китае до буддизма практически не было известно. Буддизм познакомил Китай с зачатками художественной прозы — жанра, до того почти не известного там. Новеллы, восходящие к буддийским прототипам, к жанру бяньвэнь и некоторым другим (в конечном счете—к индо-буддийским джатакам), со временем стали излюбленным видом художественной прозы и в свою очередь сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в том числе классического китайского романа. Буддизм, особенно чань-буддизм, сыграл немалую роль в расцвете классической китайской живописи, в том числе эпохи Сун (X—XIII вв.). Тезис чань-буддизма о том, что Истина и Будда везде и во всем — в молчании гор, в журчании ручья, сиянии солнца или щебетании птиц и что главное в природе — это великая бескрайняя Пустота, оказал большое влияние на художников сунской школы. Для них, например, не существовало линейной перспективы, а горы, в обилии присутствующие на их свитках, воспринимались как символ, иллюстрировавший Великую Пустоту природы. Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры. Здесь проводили свое время, искали вдохновения и творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов — переводчиков, компиляторов, переписчиков. Как известно, многие из сочинений буддийской Трипитаки сохранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду. Очень важно и еще одно: именно китайские буддийские монахи изобрели искусство ксилографии, т. е. книгопечатания, размножения текста с помощью матриц — досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами. Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и индо-буддийская философия и мифология. Многое из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлениями об аде и рае, было воспринято в Китае, причем рассказы и легенды из жизни будд и святых причудливо переплетались в рационалистическом китайском сознании с реальными историческими событиями, героями и деятелями прошлого (та же Гуань-инь, например, получила в Китае новую биографию, сделавшую ее в прошлом почтительной дочерью одного из малопочтенных чжоуских князей). Буддийская метафизическая философия сыграла свою роль в становлении средневековой китайской натурфилософии. Еще большее воздействие на философскую мысль Китая оказали идеи чань-буддизма об интуитивном толчке, внезапном озарении и т. п. Влияние этих идей отчетливо заметно в философии неоконфуцианства, в работах Чжу Си. С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том числе и, казалось бы, специфически китайское. Вот, например, легенда о возникновении чая и чаепития. Чань-будднсты в состоянии медитации должны были уметь бодрствовать, оставаясь неподвижными, в течение долгих часов. При этом уснуть в таком состоянии прострации считалось недопустимым, постыдным. Но однажды знаменитый патриарх Бодхидхарма во время медитации уснул. Проснувшись, он в гневе отрезал свои ресницы. Упавшие на землю ресницы дали ростки чайного куста, из листьев которого и стали затем готовить бодрящий напиток. Конечно, это лишь легенда. Однако фактом остается то, что искусство чаепития действительно впервые возникло в буддийских монастырях, где чай использовался как бодрящее средство, а затем чаепитие стало национальным обычаем китайцев. «Вкус чань тот же, что вкус ча (чая)», – гласит китайская поговорка. Нами уже упоминалась китайская гимнастика цигун. Цигун – составная часть культуры психической деятельности, и она теснейшим образом связана с другими составными элементами и частями всей метакультурной общности, в целом представляя собой своеобразное явление традиционной китайской культуры. Цигун своими корнями уходит в глубокую древность, она вобрала в себя несколько систем психофизической подготовки – как традиционно китайских, так и буддийских по происхождению. Начиная с раннего средневековья основным средоточием сохранения и развития цигун обычно становились монастыри (чаще всего буддийские). В немалой степени благодаря буддизму цигун сохранилась до наших дней, и поэтому некоторые системы оказались «окрашены» в буддийские тона. В цигун входят и системы, которые передавались исключительно буддийскими монахами. Такое же влияние буддизм оказал и на традиционные воинские искусства Китая, взаимодействие которых с индийскими боевыми искусствами, принесенными буддийскими монахами и буддийской психотехникой дало то многообразие школ и направлений, которые мы знаем под именем «у шу». Прежде всего монастыри секты чань становились центрами развития «у шу». Буддизм был единственной мировой религией, получившей широкое распространение в Китае (ни христианство, ни ислам никогда не были там популярны, оставаясь достоянием лишь незначительного меньшинства). Однако специфические условия Китая и характерные черты самого буддизма с его структурной рыхлостью не позволили этой религии, как и религиозному даосизму, приобрести преобладающее идейное влияние в стране. Как и религиозный даосизм, китайский буддизм занял свое место в гигантской системе религиозного синкретизма, которая сложилась в средневековом Китае во главе с конфуцианством. Параллельное существование даосизма и буддизма рядом с конфуцианством, считает Л.С. Васильев, всегда создавало и в образе мышления, и в политике Китая своего рода биполярную структуру: рационализм конфуцианства с одной стороны и мистика даосов и буддистов – с другой. И эта структура не была застывшей, она находилась в состоянии динамического равновесия. В периоды функционирования крепкой централизованной власти конфуцианский полюс действовал сильнее и он же определял характер общества. В периоды кризисов и восстаний на передний план выходил, как правило, даосско-буддийский полюс. Е.А. Торчинов пишет: «Сюй Дишань в 20-е годы справедливо заметил, что доминанта конфуцианства в сфере этнопсихологии китайцев во многом является кажимостью, ошибкой стороннего наблюдателя, принимающего за сущностное наиболее бросающееся в глаза, тогда как в реальности удельный вес даосских представлений, активно формировавших этнопсихологию ханьцев и их менталитет, значительно превышает объем влияния конфуцианства. Заслуживают внимания и попытки некоторых ученых весь трудный и сложный опыт истории КНР представить как следствие влияния глубинного и наиболее сущностного (даосско-буддийского) аспекта китайской культуры с его эгалитаристско-утопическими интенциями. Восточная «религия освобождения», как мы уже могли не раз убедиться, проповедует не радикальное преодоление человеческой природы, а ее по-своему радикальное высвобождение или, по-другому, самовосполнение. Строго говоря, эта религия не имеет ни догматов, ни даже культа, и никакое действие человека в ее контексте не может быть отпадением от высшей реальности, каковая есть не что иное, как недвойственность пустоты и формы, «рождающихся совместно». Физический мир — только тень и отблеск пустоты, но сама пустота не имеет образа. Человек в китайской традиции не обречен выбирать между бытием и небытием и потому даже не обязан подтвердить реальность своего существования творчеством. Он свободен быть и не быть, знать и не знать. Вот так религия освобождения оправдывает все виды человеческой деятельности — политику, искусство, мораль, культуру, хотя из этого, конечно, не следует, что искусство или политика на Востоке сами по себе священны. Просто всякая деятельность, полнота каждой вещи коренится, как говорили древние даосы, в Едином. Восточная традиция не присваивает привилегированного статуса какой-либо области человеческого опыта; скорее, она стремится возвести все действия человека к бесконечной действенности, вечноотсутствующей подоснове всего свершающегося — этому «Великому Единству» как не-действованию. Согласно даосским учителям, такое протобытие всякого существования, эта прапочва всякого жизненного роста дается нам как перспектива высшей, или «небесной», полноты опыта (В.В.Малявин). Понятие китайской культурной традиции Итак, мы рассмотрели в общих чертах как возникли и что представляют собой даосизм и китайский буддизм. Мы также попытались кратко изложить их влияние на национальную культуру Китая – описали некоторые достижения Китайской цивилизации непосредственно связанные с даосизмом и буддизмом. Но тема данного реферата заставляет нас идти дальше простого перечисления культурных достижений Китая в связи с даосизмом и буддизмом. Мы должны проследить влияние этих религий на формирование национальных культурных традиций Китая. Этот вопрос сложнее. Трудность данного вопроса исходит из того, что понимать под традицией вообще и под китайской культурной традицией в частности. Здесь нам близка точка зрения известного китаеведа В.В. Малявина. «Сегодня, пережив все искушения либерально-прогрессистской идеи, мы можем и даже обязаны взглянуть по-новому и на внутреннюю, и на общественную жизнь человека, попробовать руководствоваться той точкой зрения, которая побуждает нас превыше всего ценить в человеческой жизни не умное, не оригинальное, не приятное, а просто долговечное – то, с чем можно жить всегда. Это взгляд, который позволяет увидеть глубочайшую правду человеческого бытия в традиции. Ведь традиция, если следовать исходному смыслу этого слова, есть то, что пере-дается от человека человеку, из поколения в поколение. Традиция воистину за-дана нам: она есть то, что дается человеку прежде всего, но опознается им после всего пережитого и понятого. Исторически традиция – величина незаконченная, вечно открытая будущему. Поэтому ее нельзя «знать» или «понимать» – ее нужно охранять. Расхожие представления о традиции как некоем застывшем освященном обычаем или авторитетом наборе «норм», «идей» или предметов, слишком поверхностны и наивны. В лучшем случае такие представления поддерживаются дилетантами, не понимающими внутреннего смысла культуры, в худшем – служат пропагандистскими приемами, обслуживающими власть. На самом деле если что- то и есть косного в человеке, так это прежде всего его собственные представления о мире и о себе, которые никогда не могут поспеть за непрерывно убегающей вперед реальностью… Традиция по определению есть то, что пере-дается, переходит в новое состояние, неуклонно уклоняется от самого себя. Ее бытия – это превращение и даже, точнее «тысяча превращений, десять тысяч перемен», поскольку изменение не сводится к логической единичности, но творит бесконечно разнообразный мир. Бытие традиции есть не что иное, как Хаос: бесконечно сложная геометрия саморассеивающейся цельности». (см. В.В. Малявин «Недостижимое близкое: традиция в Китае» в «Книге Прозрений», Москва, 1997). Таким образом, традиция не есть нечто застывшее, некие нормы поведения, идеи, обычаи, обряды, передающиеся из поколения в поколения в течении длительного времени. Традиция – это передача «от сердца к сердцу», сохранение самого творческого духа, некой первоосновы, которая пронизывает все и вся, на основе которой и можно выстроить все внешние проявления традиции. В.В.Малявин видит центральную идею китайской мысли о традиции как «идею внутренней преемственности внешне разнородных явлений, присутствия «одной нити», пронизывающей бусинки мирового ожерелья «обстоятельств». Этот классический образ попутно высвечивает еще одно: явленный мир есть нечто декоративное, пребывающее «за пределами» сущностного бытия. С точки зрения традиции, пространство культуры, закрепляющей внешние, предметные образы мира, – это поле игры духа. Культуротворчество – не утомительное занятие педантов, а повод для душевного отдохновения… В последней глубине традиции хранится сердце Мастера». (В.В. Малявин «Недостижимое близкое…»). Подлинная преемственность традиции не тождественна воспроизведению внешних ее атрибутов, равно как новаторство – их отрицанию. Китайский ученый Цзун Бин в V в. писал: «Правду, утерянную во времена седой древности, можно в помыслах постичь даже через тысячу поколений». Исходя из всего вышесказанного под национальными культурными традициями Китая мы будем понимать те идеи и принципы, что лежат в основании наиболее ярких его культурных достижений, тот дух, что объединяет китайскую живопись, поэзию, каллиграфию, литературу, философию, воинские искусства. Но нужно помнить, что эти идеи и принципы не являлись догматами, раз и навсегда заданными образцами, канонами. Они были рождены из глубин бытия и были неотделимы от истинной реальности, и каждый человек, следуя традиции, должен был вновь и вновь возвращаться к истокам, заново рождать эти идеи и принципы в себе самом. Даосизм и буддизм – сердце китайской культуры Даосизм и буддизм (наряду с конфуцианством) и являются в сущности теми идеями и принципами, которые лежат в основе национальных культурных традиций Китая. В Китае средних веков говорили, что чань – это сердце поэзии и живописи. Таким же образом можно сказать, что даосизм и буддизм – сердце китайской культуры. Если конфуцианство – тело культуры, то даосизм и буддизм являются жизненным началом, приводящим в движение весь ее организм. Даосизм и буддизм не оказывали влияние на формирование культурных традиций Китая. Влияние может оказывать нечто внешнее, чужое, отдельное. Буддизм, казалось бы, можно отнести к внешнему влиянию по отношению к культуре Китая. Но его приход во II в. н.э. не принес кардинально новых идей в Китай. Китай взял из буддизма только то, что соответствовало его глубинному миропониманию. Передать другому можно только то, что находит отклик в его душе, что уже было пережито им. Поэтому «ничему научить нельзя». Буддизм оказался катализатором взлета всех творческих сил страны. Его появление заставило людей вновь обратиться к истокам бытия, к истинным основам человеческого существования. Идеи даосизма были очищены и звучали с новой силой. Говорят, что все религии протекают из одного источника. Источник этот – истинная реальность, скрывающаяся от ограниченного сознания за пестрым узором внешнего мира. Воды даосизма и буддизма, проистекающие из этого источника, оказались наименее замутненными, поэтому исследователи находят в их учениях так много «совпадений» друг с другом, поэтому первоначально буддизм в Китае воспринимался как одна из сект даосизма. Подходя непосредственно к вопросу о том, какие же «общие» для даосизма и буддизма идеи составляют основу культурных традиций Китая, мы приходим в некоторое замешательство. Даже поверхностное знакомство с китайской мудростью не проходит бесследно. Теперь трудно описать в нескольких словах, что же является сущностью китайской культуры. Ибо одним из главных постулатов и даосизма, и буддизма гласит, что истина – за пределами мыслей и слов. Все же в человеке есть некая естественная склонность прорваться за границы своего ограниченного мира. Стать единым с миром, «забыть себя и вернуться к естественности». Эта склонность не является верой, не требует доказательств необходимости такого выхода за пределы. Она просто есть. Мы можем это чувствовать. Мудрецы не стремятся к просветлению, у них нет никакой особой цели, они просто живут. Мудрецы действуют, не имея привязанности, их действия не противоречат порядку вещей, а являются частью общего потока бытия – это и называют «недеянием». Мудрецы не ищут Пути, и не идут им, ибо «когда ты встал на Путь, ты уже достиг Цели» – поэтому Пути нет, поэтому не нужно и веры в его существование. Мудрецы не ограничивают себя рамками собственного «я», т.к. оно загораживает весь Мир. Мир представляет собой не застывшее бытие, а живой, движущийся космос, где нет ничего костного, ничего обособленного, тождественного самого себе. «Все во мне и я – во всем». Нет ни объекта, ни субъекта. Явления «внешнего» мира, лишь «пузыри в кипящем треножнике», лишь волны на поверхности океана. Чтобы заглянуть в глубь его, нужно просто смотреть. «Смотреть и не видеть, слушать и не слышать», – дважды говориться в «Даодэцзине». «Мудрость в том и состоит, чтобы не открывать что-то, никому не известное, а научиться просто смотреть. Научиться видеть, что нечто дается человеку прежде всякого объекта созерцания и что не является ни фактом, ни опытом, ни идеей, ни объектом» (Малявин). То что не является ни фактом, ни опытом, ни идеей, ни объектом нельзя передать словами. «То что вверху, то и внизу». Истинная реальность просвечивает в самых обыденных явлениях, образах окружающего мира. Увидеть ее свет легче в малом, повседневном, неприметном, безыскусном. «Тихий» образ не заслонит сущности огромными размерами, кричащими чертами и красками, не оглушит звуками – не ослепит сознание. Как тихий голос заставляет вслушиваться, так и «тихий» образ заставляет всматриваться, приникать к нему, опустошать собственное сознание, избавляться «от всех мнений и предположений», чтобы хаос мыслей не мешал видеть. Все в этом мире есть лишь отражение, символ мира «горнего». Символ не исчерпаем, поэтому к каждому явлению, образу можно возвращаться постоянно, находить все новые и новые смыслы, все новые оттенки, отблески вечности, все глубже проникая в сущность бытия. Духовная традиция и некоторые черты искусства Китая «Сердце должно быть абсолютно чистым, без пыли, и пейзаж тогда возникает из самых глубин его» (Ван Ю). «Краснодеревщик Цин вырезал из дерева раму для колоколов. Когда рама была закончена, все изумились: рама была так прекрасна, словно ее сработали сами боги. Увидел раму правитель Лу и спросил: “Каков секрет твоего искусства?” — Какой секрет может быть у вашего слуги — мастерового человека? — отвечал краснодеревщик Цин. — А впрочем, кое-какой все же есть. Когда ваш слуга задумывает вырезать раму для колоколов, он не смеет попусту тратить свои духовные силы и непременно постится, дабы упокоить сердце. После трех дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жалованье. После пяти дней поста я избавляюсь от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после семи дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе. Тогда для меня перестает существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня всего, а все, что отвлекает меня, перестает существовать для меня. Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Вот тут я вижу воочию в дереве готовую раму и берусь за работу. А если работа не получается, я откладываю ее. Когда же я тружусь, небесное соединяется с небесным — не оттого ли работа моя кажется как бы божественной?» (Чжуан-цзы). Являясь сердцем китайской культурной традиции, даосизм и буддизм являются сердцем китайского искусства. В.В. Малявин пишет: «Одна из поразительнейших особенностей китайской цивилизации состоит в том, что искусство Китая на этапе его зрелости является, пожалуй, самым достоверным и полным выражением основ китайской духовной традиции… Благодаря творческой интуиции и мастерству китайских художников, классическое искусство Китая стало подлинным воплощением бодрствующего, вечно деятельного духа, растекающегося по необъятному телу жизни и наполняющего каждую его клеточку. В конце концов это искусство стало даже более точным и глубоким свидетельством духовного опыта, чем официальные религии… Образ мира, представленный в китайском искусстве, никогда не мыслился китайскими мастерами как отражение или слепок некоей «объективной действительности», но имел прежде всего символическое значение: он был призван указывать на незримые глубины опыта. От китайского живописца вообще не требовалось рисовать с натуры; ему следовало выписывать воображаемый, всецело внутренний мир. И если китайская картина кажется вполне реалистической и даже содержит точное обозначение изображенной местности и даты ее создания, то лишь потому, что правда «духовного превращения» не существует вне конкретности события, как чистое зеркало – вне отражаемых им образов. Но в картине настоящего мастера, по китайским представлениям, обязательно должен быть секрет. Не потому, что живописец должен намеренно что-то скрывать от зрителя. Просто его произведение требует не любования внешними предметами, а усилия внутреннего прозрения. Как говорили в Китае, подлинная картина (или, если угодно, подлинное в картине) – вне картины. Истинный же секрет живописи заключается не в утаенности предмета живописного изображения, а именно в неразличимости внутренней реальности жизни и ее внешнего образа, неразличимости глубины и поверхности нашего опыта. Если картина – это маска реальности, то маска тем утонченнее, чем менее заметна она со стороны» (В.В. Малявин. «Молния в сердце»). «Итак, китайская картина – это не копия какого бы то ни было предмета материального или идеального мира, а пространство «совместного рождения» (бин шэн) всего сущего – пространство активное, энергетически заряженное и функциональное по своей природе. В классическом китайском пейзаже подчеркивается несоизмеримость естественного мира и человека в его внешнем, так сказать, «человекоподобном» образе. Такой человек ничем не выделяется здесь из тьмы существ, населяющих мир, он кажется песчинкой, затерянной в необозримых просторах мироздания… Пейзаж обычно увлекает нас в недостижимые дали или небесную высь, но иногда, например, в традиции, заложенной в XIV в. Ван Мэном, он целиком располагается ниже уровня горизонта, и тогда, рассматривая его, мы словно погружаемся в пустоту мировой пещеры, становимся свидетелями таинств мироздания, внушающих подлинно священный ужас. И все же этот мир, предстающий ареной необузданной и грандиозной игры стихий, словно бы укрывает собой человека, хранит его в себе. Он поистине интимен ему, как мать, и поэтому освобождает человека от гордыни и тщеславия, прививаемых ему обществом, дает ему мужество и силы жить наравне с вечностью. Вглядевшись внимательнее в пейзаж, мы обнаружим, что человек, как будто затерянный среди просторов мироздания, есть в действительности средоточие мирового круговорота, подлинное «сердце мира». Он не только храним миром, но и сам хранит его в себе. Его ничтожество перед всеобщей метаморфозой бытия есть его величие сопричастности к этому бесконечному танцу вещей. И одно, как ни странно, подразумевает другое. Средой сокровенной встречи несовместного, сообщительности несходного выступало опять-таки тело, но не в качестве физического предмета, а как органическое целое, пространство внутреннего опыта. Китайское искусство вообще не знало «обнаженной натуры» и пренебрегало анатомическими пропорциями, зато физиологические и психические свойства человека без оговорок переносились на природные явления и сам процесс творчества: кости, сердце, дыхание, кровеносные сосуды, плоть, жизненная сила и т.д. — все эти понятия прочно вошли в лексикон китайской каллиграфии и живописи. Представления о внутренней преемственности между человеком и миром породили и особый аллегорический язык художественной традиции Китая. Так, различные виды животных и птиц служили там эмблемами чиновничьих достижений, прототипов художественных композиций и стилей. В каллиграфии и живописных образах старые китайские знатоки различали, как и в теле, внутреннюю и внешнюю стороны, причем «костяку» изображения подобало быть, как скелету в теле, сокрытым. Для характеристики же каллиграфического почерка они подыскивали аналогии в естественной жестикуляции, уподобляя написание знаков тому, как человек, говоря словами одного средневекового ученого, «сидит, лежит, ходит, стоит, сгибается в поклоне, бранится, плывет в лодке, едет верхом, пляшет, хлопает себя по животу, топает ногой...». В каждом движении кисти живописца, по традиционным китайским представлениям, проглядывается человеческая индивидуальность. Но формы искусства являют, по существу, зеркальный, вывернутый наизнанку образ человека. Их красота была воистину лишь декором, украшением жизни». (В.В. Малявин. Душа китайского художника. Книга прозрений). «Недостижимая усредненность, равнозначная «отсутствию аромата», – вот что делало картину в Китае прообразом даосского «забытья» или чаньского «просветления» и побуждало китайских художников из века в век мечтать о какой-то другой живописи. «Где нет картины, так картина есть», – гласит одна из популярных максим живописной традиции в Китае». (Малявин. Молния в сердце). «Классическое искусство Китая есть не что иное, как проекция виртуальной реальности самопревращения — перемены, которая происходит прежде появления всех форм и которая поэтому не имеет своего образа и не может быть определена в одной-единственной формуле. То «раскрытие свойств вещей», которое в китайской традиции провозглашалось целью и художественного творчества, и технической деятельности, означало лишь перемещение возможностей, заложенных в самих вещах, «вечнопреемство духа» (и шэнъ). Событие самотрансформации, по сути, носит характер самовосполнения вещей, собирания бытия. Оно превосходит всякую «точку зрения» и остается поэтому как бы незамечаемым. Ведь полнота бытия — это не объект, а присутствие. Всеохватная пустота бодрствующего сознания не определяет конкретных форм отношения человека к миру, она лишь создает условия для выявления пространства, указывает на ту дистанцию самоотстранения, само-диалога, которая порождает все системы знаков, позволяет сформулировать язык художественного изображения. В традиционной эстетике Китая хорошо сознавалось значение хаотического всеединства для истолкования художественного творчества. Достаточно упомянуть об основополагающем для китайской живописи принципе «одного движения кистью», «одной черты» (и хуа). На рубеже XVII-XVIII веков художник Шитао разъяснял его смысл в следующих словах: «В незапамятно древнем нет приемов, и великая целостность не рассеяна. Когда же великая целостность рассеяна, появляются приемы. На чем же основываются приемы? Они основываются на одной черте. Одна черта — исток всего сущего, корень всех явлений. Она раскрывается в жизни духа и хранится человеком. Посему истина одной черты устанавливается нами самими. Постигший истину одной черты может вывести все приемы из отсутствия приемов и постичь одну истину во всех истинах...» Понятие «одной черты» у Шитао вмещает в себя целую философию искусства. Проведение черты кладет конец первозданной нерасчлененности Хаоса; оно знаменует творение мира как процесс последовательного разграничения, разделения. В то же время «одна черта» охватывает всю практику живописи, ибо что же такое живопись, как не проведение линий кистью? Это тем более верно в отношении живописи китайской, которая со временем все более сближалась по своим техническим средствам и приемам с графикой (в китайском языке иероглиф хуа обозначал и черту иероглифа, и рисунок). К примеру, зарисовки бамбука или цветов, выполненные минскими мастерами, являют собой органическое единство живописи и каллиграфии. Линия в изобразительном искусстве Китая определяет формы, очерчивает плоскости, выявляет пространство, передает движение. Она, наконец, отображает душу живописца, его творческую индивидуальность, выступая главным критерием различения индивидуальных стилей. Но «одна черта» — всегда одна и та же, и поэтому она опосредует единое и множественное, единичное и единое; она есть и присутствующее и «неизменно отсутствующее» в любой момент времени. «Одна черта», о которой говорит Шитао, есть, очевидно, реальность символическая — та сокровенная преемственность духа, которая незримо проницает индивидуально-различные моменты существования. Аналоги этой концепции нетрудно обнаружить и в других формах культурной практики, принятых в китайской традиции. Так, мастера старинных школ боевого искусства в Китае утверждали, что «в кулачном бою, по сути, нет приемов» и все формы кулачного искусства «восходят к Единому»… Принцип «одной черты» отчетливо прослеживается и в пластике популярного в средневековом Китае псевдопримитивистского, так называемого деревенского стиля – одного из самых утонченных памятников классической китайской скульптуры. В «деревенском» стиле поверхность материала оказывается, по существу, функцией постоянно меняющихся линий и как бы теряется, рассеивается в их текучей, затейливой и все же как будто стихийно разрастающейся паутине. Здесь форма, подобно образу в живописи, «не держит» стиль, становится материалом для пластической импровизации. Соскальзывает в аморфную, но внутренне совершенно определенную вещественность, становится пусто-телой, преображается в сгусток энергии. Но это «живое движение» материала при всех его непредсказуемых и неожиданных поворотах, совершенно непритязательно и безыскусно, ибо оно хранит в себе нечто как нельзя более естественное – пульсацию живого тела бытия». (Малявин. «Молния в сердце»). «Идти Великим Путем, вверять себя бездне творческих превращений жизни — значит открывать в «последней глубине» своего сердца вечно- преемственность духа… И лучшим прообразом пребывания в Пути среди всех жизненных состояний, всех «жизненных миров» человека является, пожалуй, сад. Ведь именно сад, выступая посредником между цивилизацией и природой, внутренним и внешним в человеческом бытии скрадывает различие между тем и другим и позволяет ощутить неизбывное в жизни. Именно сад есть прообраз особенного, всегда другого пространства, являя в этом своем качестве символ беспредельного простора воображения. По той же причине сад — это пространство, где произрастает чистое, по-детски целомудренное и вольное «сердце Пути». Не удивительно, что именно в саде нашли свое воплощение глубочайшие интуиции китайского духа, самые утонченные радости и заветные мечты ученых людей старого Китая. Китайский сад собирает в себе дом и космос, порядок и волю, труд и досуг. Он есть подлинное средоточие, фокус Пути как преемственности человеческого и небесного. Но этот фокус заведомо выше формальных определений. Настолько выше, что неясно даже, имеет ли право на существование самое понятие «китайский сад»? Сады Китая отличаются необыкновенным (хочется сказать — программным) разнообразием, и их невозможно свести к условностям того или иного стиля. Ни один из китайских садов не похож на другой, и ни один из огромного множества составляющих его элементов не повторяется в нем. Напрасно было бы искать в этом грандиозном зрелище необозримого Хаоса какие-нибудь принципы или законы, которые помогали бы находить порядок в бесконечно дробящейся мозаике бытия. Как замечает Цзи Чэн, автор главной книги об искусстве сада в Китае — «Устроение садов» (1634 г.), «в устройстве сада не существует правил, каждый должен сам выказать свое умение». Бытие китайского сада не подчиняется каким-либо отвлеченным правилам, оно есть не что иное, как раскрытие пространства и времени, вечное самообновление. Однако же нет ничего последовательнее непоследовательности. За видимой хаотичностью, рождающей недоумение и восторг, скрывается не менее изумительная цельность. Это хаос, который взывает к предельному единству бытия. Китайский сад отличается поразительной стилистической убедительностью именно как целостное явление, взятое в единстве всех его аспектов — утилитарных и эстетических. Ибо китайский сад — это не просто оазис «художества» в пустыне житейской рутины. Он предназначен не только для того, чтобы в нем развлекались и мечтали, но и для того, чтобы в нем жили и трудились. Он не является «окном в мир», пограничной зоной между естественным и человеческим — местом предосудительных увеселений или демонстрации триумфа человеческого разума (история европейских садов, кстати сказать, в изобилии дает примеры и того и другого). Но это и не окно в прекрасный мир идеала, прорубленное в темнице земного бытия. Перед нами сад как дом — фокус эстетически осмысленного быта, охватывающий все стороны человеческой деятельности… Говоря о символических и художественных ценностях китайского сада, надо иметь в виду, что сады в Китае всегда сохраняли свое значение мира в миниатюре, прообраза полноты бытия. В них неизменно должны были присутствовать все элементы природного мира — земля, вода, камни, растительность. Китайский ученый Тун Цзюнь, выводящий значение понятия сада из начертания соответствующего иероглифа (распространенный прием в китайской традиции), толкует сад как совокупность «земли», «воды», «листьев» и «ограды». Сад в китайском понимании — это целый мир, вмещающий жизнь человека, «мир в мире»... Китайский сад — это мир «вольного скитания» духа, постигаемый внутри себя. «Когда нет настоящего места, где можно жить в свое удовольствие, — писал Ли Юй, — всегда можно вообразить несуществующее место, где можно жить так, как сам того пожелаешь». Где же в таком случае пребывает китайский сад? Одновременно в действительности и в мечтах. И в невозможности ни стереть границу между тем и другим, ни отделить одно от другого кроется тайна жизненности сада. Судьба китайского сада дана в загадке самоскрывающегося зияния Пустоты. Случайно или нет, она составила главную тему самого утонченного китайского романа — «Сон в Красном тереме», где действие развертывается в пределах сада состоятельной служилой семьи, носящего символическое наименование «Сад Великого Созерцания» (в традиции китайского садоводства «великим созерцанием» именовалось всеобъятное, панорамное видение). Сад Великого Созерцания — идеал традиционного китайского сада. Но как ни стараются его обитатели сохранить свой замкнутый «мир в мире» и себя в нем, им это не удается. Один за другим они вынуждены покинуть свой дом, а сад в конце концов приходит в запустение. Печальная судьба героев «Сна в Красном тереме» может показаться иллюстрацией популярной в прозе того времени буддийской идеи морального воздаяния: постигающие их несчастья — расплата за пристрастие к предосудительным развлечениям. Однако внимательное чтение романа позволяет обнаружить в нем и более глубокую подоплеку жизненной катастрофы его героев, и заключается она в привязанности обитателей сада к условному образу полноты бытия, каковым предстает их Сад Великого Созерцания. Вместо того чтобы вновь и вновь переопределять свое отношение к миру и тем самым превозмогать себя, они пытаются привести жизнь в согласие со своими представлениями. Но принять иллюзию за действительность — это значит счесть действительность иллюзией! Все же главное назначение китайского сада, как и любого творчества в китайской традиции, — порождение символического мира, бесчисленного сонма символических миров. Искусство сада по-китайски — это умение сказать как можно больше, явив как можно меньше. Классический китайский сад вырос из понимания того, что никакая сумма конечных образов сама по себе не произведет эффекта бесконечности. Этот сад заставляет ощутить ограниченность любой перспективы, уткнуться в предел всякого видения. Он представляет собой поток никогда не повторяющихся видов. Он может быть каким угодно. Только в этом неисчерпаемом разнообразии каждый момент может быть Всем. «Одна горка камней способна вызвать несчетные отклики; камень, размером с кулак, родит многие чувства», — пишет Цзи Чэн. «Горсть земли и ложка воды навлекают безбрежные думы», — вторит ему Ли Юй. Бездонная глубина сердца навевается последовательностью стиля. И такая последовательность воочию зрима в китайском доме-саде — последовательность, подчеркивающая естественные свойства материалов и вместе с тем, как всякий стиль, имеющая декоративное назначение. Изгибы стен, энергетизированная пластика декоративных камней, глубокие рельефы и инкрустации на предметах интерьера, затейливая резьба деревянных конструкций, мебель с наплывами, искривленные деревца, зигзаги галерей и мостов, петляющие тропинки, изгибы крыш — все это создает впечатление легкого и радостного скольжения духа, игры жизненных сил, преображающих косную материю и с истинно царственной щедростью стирающих собственные следы, бросающих в мир свои богатства...» (Малявин. Волшебный мир сада. Книга Мудрых Радостей). «Внимание китайцев к микрообразам объясняет их необычайную любовь к миниатюре, начиная с изготовления крохотных моделей различных предметов и кончая знаменитыми миниатюрными «садами на подносе». Что такое карликовый сад? Казалось бы, чистый курьез. Но, блистательно стирая грань между действительностью и фантазией, он останавливает взор и заставляет вглядеться в мир, а значит, по-новому увидеть и оценить свойства вещей. Это и магический предмет: еще в минское время миниатюрные сады служили талисманами, которые вмещают полноту животворных сил природы и поэтому оберегают от напастей. Но главное, такие сады являли образ полноты бытия, прозреваемой внутри, в символическом мире, где нет внешнего освещения, нет смены дня и ночи, нет неотвратимого угасания жизни. Знатоки в особенности восторгались тем, что деревья в миниатюрных садах «никогда не меняют цвета». Пожалуй, в универсум, спрятанный внутри нас, можно только войти — раз и навсегда. Популярная в средневековом Китае легенда о маге, который вошел в миниатюрный сад и пропал в нем, напоминает о том, что миниатюра действительно открывает для нас мир: она учит прозревать незамечаемое и новыми глазами смотреть на привычное. Она есть вестник вечно ускользающего присутствия реальности. Она заставляет верить, что каждая вещь может быть дверью в новый мир и каждый штрих бытия хранит в себе неисчерпаемый смысл. Писатель XVIII века Юань Мэй заметил: «Сад радует наш взор и нас укрывает». Сад охватывает пребывающего в нем человека, потому что тот сам открывает — и высвобождает — пространство. Сад как миниатюра всегда может быть охвачен «одним взором» — тем скрытно-круговым видением, которое подразумевалось известным нам приемом «заимствования вида». Созерцание такого рода самодостаточности бытия дарует душе чистый покой». (Малявин. Молния в сердце). «Многое в культуре Китая свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело не просто с эстетическими пристрастиями, а с чем-то гораздо более серьезным и значительным — быть может, с основополагающей интуицией всей китайской цивилизации. Эта интуиция выражается в ряде самобытных и все же родственных друг другу представлений и формул, определивших восприятие пространства в китайской традиции. Некоторые из этих представлений несут в себе идею слоистости и, соответственно, свернутости пространства. Эта идея со всей очевидностью представлена уже в «Книге Перемен», основные графические символы которой, так называемые гексаграммы, являют собой картину шести уровней, или слоев, каждой космической и жизненной ситуации. С математической точки зрения структура графем «Книги Перемен» предполагает шестимерную модель пространства. Впрочем, первичным следует признать двухслойное строение пространства, запечатленное в даосской формуле «двойной сокрытости», или «двойной глубины» (чун сюань). Идею же бесконечно слоящейся, или экранированной, глубины выражал традиционный образ «девяти изгибов», или «девяти складок» мира (цзю цюй). В теории живописи та же идея засвидетельствована известной нам метафорой «туманной дымки». Другим архетипическим образом реальности в традиционной китайской мысли, также восходящим к древним даосским канонам, был образ «вечно вьющейся нити» или, по-другому, нити, скручивающейся в узел бытия. Сходную природу имеет представление о реальности как «одном тянущемся стволе». Подобные метафоры имеют своим истоком, несомненно, внутренний опыт, интуицию сокровенной преемственности жизни. В даосских школах боевых искусств так описывалось движение в человеческом теле энергетического импульса, служившего подлинным источником силы мастера кулачного боя. Старинное изречение учителей кулачного искусства гласит: «Движение энергии — как Девять сгибов в жемчужине, и нет такого места, куда бы оно ни достигало». Под Девятью сгибами в данном случае понимались девять главных сочленений тела: шея, лопатки, поясница, бедра, колени, щиколотки, плечи, локти, запястья. В «Каноне Тайцзи-цюань», главном сочинении одной из классических школ кулачного искусства, приписываемом даосу Чжан Саньфэну, говорится: «Когда начинаешь двигаться, в теле нет ничего, что не двигалось бы, и движения должны быть как бусы, нанизанные на одну нить... Пусть все тело будет словно пронизано одной нитью, и не позволяй этой нити обрываться где бы то ни было...» Все движения в даосской боевой гимнастике надлежит совершать, как бы воспроизводя невидимые траектории циркуляции жизненной силы в организме — по спирали или, говоря шире, по сфере, плавно и без разрывов, соблюдая равновесие пустого и наполненного, жесткого и мягкого во внутреннем состоянии. Примечательно понятие «свертывания» (чжэ де), обозначавшее момент скручивания необходимого для смены вектора движения. Это понятие объединяло даосскую гимнастику с техникой каллиграфии: речь идет о некоей насыщенной паузе в движении кисти и руки, о своего рода «противодвижении», которое предваряет движение физическое. Технически акт «свертывания» означал, что для того чтобы сделать движение кистью или рукой, к примеру, влево, сначала нужно немного отвести их по окружности вправо, а чтобы нанести удар вперед, рука должна переместиться по той же сферической траектории назад и т.д. Так в фазе «свертывания» всякое поступательное движение преображалось в движение возвратное, круговое, и «вечно вьющаяся нить» Пути (выражение Лао-цзы) не обрывалась. Но момент «свертывания» знаменовал также перевод плоскостных, явленных на поверхности образов в образы глубины, внутренней формы». (Малявин. Молния в сердце). Китайское искусство, «китайская мудрость не знает трагического героя западного образца – того, кто борется и побеждает… ценою собственной гибели. Скрижали Китая повествуют о герое не борющемся, но сокрытом, идущем внутренним путем сердца: о том, кто оставил мир и с неизбежностью оставил… самое желание уйти; кто оставил мир и с неизбежностью оставил… самое желание уйти; кто своим отказом от обладания чем бы то ни было возвращает себе вечность мировых пространств и непоколебимую безмятежность духа… Китайский мудрец «покоен в бедности». И более того: чем он «беднее», чем свободнее от всего, что наполняет его сознание, тем больше способен он объять собой, тем больше в его душе покоя – непременного условия всякой настоящей радости». (Малявин. Откровение радости. Книга Мудрых Радостей). Человек в китайской традиции является органичной частью Природы, совершенно естественно поэтому, что основной темой изображений и стихов в Китае является Природа во всем своем величии и красоте. Каждый объект Природы бесконечен, неисчерпаем в своей глубине, именно в Природе мы находим высшую гармонию, естественность, безыскусность. Созданное же человеком зачастую является жалкой пародией на сотворенное Природой, лишь яркой оболочкой без содержания. Поэтому увлечение «искусственным» не ведет к просветлению. Интересно высказывание из «Чжуан-цзы»: «У того, кто применяет машину, дела идут механически. У того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать путь». В главе «Искусство и духовное пробуждение» книги «Молния в сердце» В.В. Малявина, не рассматривается китайская поэзия. Это можно объяснить тем, что сущность поэзии одинакова в культурах всех стран и не требует отдельного исследования. Поэзия и состоит в том, чтобы посредством ритмически связанных слов передать то, что лежит за пределами слов, посредством простых образов, выразить сокрытое. Здесь мы не будем вдаваться в подробности и приведем лишь два стихотворения китайского поэта Ли Бо (701- 762). |(БЕЗ НАЗВАНИЯ) |ПОПУГАЙ | |Гора Пэнлай |Попугаем владеют | |Среди вод морских |Печальные мысли: | |Высится, |Он умен - и он помнит | |Говорят. |Про все, что бывало. | |Там в рощах |Стали перья короче, | |Нефритовых и золотых |И крылья повисли. | |Плоды, |Много слов он узнал – | |Как огонь, горят. |Только толку в них мало. | |Съешь один - |Но он все-таки ждет: | |И не будешь седым, |Не откроется ль клетка? | |А молодым |Люди любят - да держат | |Навек. |В неволе железной. | |Хотел бы уйти я |И пустеет в лесу | |В небесный дым, |Одинокая ветка. | |Измученный |Что же делать ему | |Человек. |С красотой бесполезной? | «В Х веке теоретик каллиграфического и живописного искусства Цзин Хао утверждал, что цель работы каллиграфа или художника есть «сотворение подлинности» (чуан чжэнь), тем самым даже терминологически поставив художественное творчество наравне с даосским совершенствованием, которое именовалось в Китае «созиданием подлинности» (ею чжэнь). Выходит, человек усилием своей просветленной воли, но превыше всего щедростью, божественным богатством своего сердца способен придать бытию вещей еще большую подлинность, нежели в так называемой «реальной действительности». Вот настоящий секрет китайской живописи: человек способен завершить «работу Небес». Благодаря человеку все в мире становится тем, чем должно быть. Человек и Небо сходятся воедино в акте творчества. Такова безыскусная и потому вечная истина Китая, делающая человеческую жизнь полем вольной и праздной, по-праздничному радостной работы духа». (Малявин. Молния в сердце). Заключение Главный вывод, который мы сделали о влиянии даосизма и буддизма на формирование национальных культурных традиций Китая – это то, что они являются сердцем этих традиций. Поэтому мы не смогли в данном реферате четко перечислить влияние этих религий на китайские традиции. Проведя такой анализ, мы потеряли бы живой дух китайской культуры, разбили Единое на части, а целое, как известно, нечто большее, чем комбинация составляющих его частей. Как описать влияние сердца на организм человека? Без сердца – нет жизни. Идеи и принципы, на которых основаны даосизм и буддизм, коренятся в глубинах бытия и поверяются личным опытом, в «обычной» жизни. Даосизм и буддизм не являются чем-то особенным в мировой культуре. Просто их проявление было наиболее открыто и заметно. Идеи даосизма и буддизма, как мы постарались показать, проявились во «внешнем» – в искусстве Китая, к которому может прикоснуться каждый желающий. В других культурах аналогичные учения были более скрытыми, заслоненные мощным зданием официальных религий, и их проявление в культуре было менее заметным постороннему взгляду. Можно привести пример религиозного течения суфизма в Исламе, «внешнее» влияние которого можно увидеть в средневековой арабской поэзии, образы которой часто превратно толкуются из-за незнания источника. (См. Читтик У. В поискх скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. – М.: Ладомир, 1995; Идрис Шах. Путь Суфиев, М., 1993). Из эзотерических учений наиболее близких даосизму и буддизму можно также назвать исихазм в Православии (от греч. покой, безмолвие, отрешенность) – этико-аскетическое учение о пути к единению человека с Богом через «очищение сердца» и самососредоточение сознания, посредством непрестанной умно-сердечной молитвы. Исихазм не проявился сколько-нибудь заметно во «внешних формах» культуры. (См. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М.: «София», 1999). Надо заметить, что под даосизмом и буддизмом мы подразумевали не собственно религии, а учения составляющие их сердцевину и основу, учения в их наибольшей глубине – эзотерические учения. Суфизм и исихазм соответственно являются эзотерическими учениями в рамках Ислама и Христианства. Идеи и принципы эзотерических учений представляют собой отражение тех вечных ценностей культуры, которые действительно достойны передаче от поколения к поколениям, достойны быть национальными традициями. Культурные ценности, созданные на основе этих идей и принципов, не нуждаются в охране и защите, ибо не разрушимы; не требуют памяти, ибо могут быть возрождены из самих основ бытия каждое мгновение; не требуют веры, ибо без них нет Жизни. Требование для сохранения и развития этих культурных ценностей одно – «Внимай только тому голосу, который говорит без звука». Список литературы 1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Высшая школа, 1988. 2. Дюмулен Г. История Дзэн-буддизма. Индия и Китай. – СПб.: ТОО «ОРИС», ТОО «ЯНА-ПРИНТ», 1994. 3. Книга Мудрых Радостей / Сост. В.В. Малявин. – М.: Наталис, 1997. 4. Книга Прозрений / Сост. В.В. Малявин. – М.: Наталис, 1997. 5. Малявин В.В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции. – М.: Наталис, 1997. 6. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы / Пер. с кит. Л.Д. Позднеевой. – СПб.: Издательство «Петербург – XXI век» совместно с ТОО «Лань», 1994. 7. Поликарпов В.С. История религий. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. 8. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. — М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997. 9. Померанц Г. Парадоксы Дзэн. – в журнале «Наука и религия», № ? , 1989 (?). (ксерокопия). 10. Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко-религиозного описания. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. 11. Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.В. Малявина. – М.: Мысль, 1995. Страницы: 1, 2 |
|
© 2000 |
|