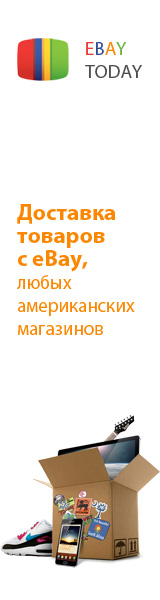|
РУБРИКИ |
Капричос Гойи |
РЕКЛАМА |
||
|
Капричос ГойиКапричос ГойиСамарский Государственный Аэрокосмический Университет Реферат по культурологии на тему: ”«Капричос» Франсиско Гойи” Выполнил: Попов Д.С. гр.2102 Проверила: Казанцева С.Г. Самара 2002г. Введение. Творчество великого испанского художника Франсиско Гойи уже более столетия привлекает пристальное внимание историков искусства. Первые серьезные попытки раскрыть сложный, глубоко драматический мир этого мастера были предприняты еще романтиками в середине прошлого столетия. В 1842 году Теофиль Готье посвятил ему до сих пор не утратившую своего интереса статью. Вместе с ней был опубликован первый, еще весьма приблизительный каталог эстампов Гойи, составленный друзьями Делакруа Эженом Пио и Фредериком Вилло. В 1857 году о нем писал Шарль Бодлер, в 1858 – вышла в свет монография Л. Матерона. И, наконец, в 60 – 70-х годах изучение искусства Гойи вышло за пределы художественно-критических размышлений и приобрело подлинный научно-аналитический характер благодаря трудам Валентина Кардереры, Шарля Ириаты, Поля Лефора. С тех пор поток исследований непрерывно возрастал, и ныне библиография Гойи исчисляется уже многими сотнями книг, статей, каталогов, альбомов и даже беллетристических произведений. Такой интерес к творчеству Гойи объясняется не только выдающимися художественными качествами его произведений, но далеко не в последнюю очередь и тем, что оно представляет собой человеческий документ исключительной силы, смысла и значения, поскольку этот испанец жил в эпоху глубочайших социально-исторических перемен, распада феодально- абсолютистского строя, буржуазных революций, войн, трагедий народов и переворотов в сознании людей и поскольку также его искусство было ярчайшим проявлением этой кризисной ситуации, этого процесса разрушения, гибели старого времени и рождения нового. Грань времен ощущается у него с невиданной силой. И подчас кажется даже, что Гойя сам прожил две жизни – умер вместе со смертью XVIII и родился с наступлением XIX века. В этом смысле равным ему среди современников был только великий Гётте. И подобно тому как в творчестве Гётте первая часть «Фауста» знаменует решительный выход за пределы привычных для XVIII столетия представлений, точно так же и в искусстве Гойи есть некая критическая точка, где кончается XVIII и начинается XIX век. Это знаменитая серия «Капричос». Кстати сказать, «Фауст» Гётте и «Капричос» Гойи почти одновременны. Решающий этап работы над первой частью «Фауста» - июнь 1797 – январь 1801 годов. Гойя обнародовал «Капричос» в феврале 1799 года, начав свою серию, как это теперь можно считать установленным, летом 1797 года. Сравнение «Капричос» и «Фауста» могло бы быть темой специального исследования. Но мы отметим лишь некоторые из главнейших черт их родства. Во-первых, сразу же бросающуюся в глаза удивительную конкретность образов, которые черпают свою жизненность не в сфере одного лишь «возвышенного» и «прекрасного» но решительно во всех, даже подчас самых «вульгарных» этажах реальной жизни. Во-вторых не менее очевидную связь образного строя «Фауста» и «Капричос» с самыми глубокими истоками народной фантазии, берущими свое начало еще в средневековой и ренессансной культуре. В-третьих, характерное для Гойи и Гёте умение перебрасывать мостки от самого «житейского» плана бытия к универсальному, космическому, от наблюдаемой реальности – к раскрывающему ее потаенный смысл представлению и от олицетворенного представления сущности обратно к живому явлению. Это удивительный сплав реальности фантастики, которая, однако, не отрывается от земной жизни, но служит ее более точному познанию. И эти качества роднят Гойю и Гёте как с той же средневековой народной культурой, так – особенно с ее наследниками в художественной культуре Нового времени – с Босхом и Брейгелем, Рабле и Шекспиром, Сервантесом, Кеведо, Свифтом. Они особенно драгоценны, так как придают творениям Гёте и Гойи энциклопедически- философский смысл, мир предстает здесь единым в своем многообразии и закономерным в своих противоречивых превращениях, борьбе жизни и смерти, света и мрака универсумом, не расчлененным еще незыблемыми противоречиями низменного и высокого, безобразного и прекрасного, житейского и космического, как это будет в дальнейшем, в искусстве XIX столетия. А отсюда вытекает и еще одна общая и для «Фауста» и для «Капричос», на этот раз уже имеющая отношение к их художественному методу, особенность. Это последние в искусстве Нового времени произведения, созданные по законам «гротескного реализма», для которого как раз в высшей степени характерно представление о мире не как о законченной системе бытия, но как о вечно незавершенном, постоянно умирающем и одновременно рождающем становлении, которое пронизано обнадеживающей уверенностью в непрерывной изменчивости жизни, опровергающей привычное, сбрасывающей с пьедесталов общепризнанные кумиры, смеющейся или издевающейся над самодовольным, воображающим себя вечным величием. В гротескном реализме важнейшую роль всегда играла фантазия, понятая как наиболее свободное проявление человеческого духа, не желающего мириться с привычным бытием, всегда беспокойная, стимулирующая, разрушающая неизменное. Это могла быть радостно играющая фантазия, стремящаяся хотя бы в воображении утвердить идею «золотого века», но это чаще была фантазия, опрокидывающая те преграды, которые ставила реальность классового общества на пути осуществления извечной мечты о свободе и счастье. И именно разрушающая и созидающая фантазия живет и составляет важнейшую особенность и «Фауста» Гёте и «Капричос» Гойи. О проблеме гротескного реализма мы еще будем говорить подробно в связи с «Капричос». А сейчас отметим лишь то обстоятельство, что все эти особенности серии Гойи сделали ее весьма крепким орешком для понимания не только современников, но и многих последующих поколений, особенно если учесть, что люди XIX века с их привязанностью к позитивистски- рационалистическому мировосприятию почти утратили способность понимать язык гротескного реализма и были склонны рассматривать фантастическое как антипод реальности или же – как «маску», систему иносказаний и аллегорий, к которой прибегает художник тогда, когда ему нужно что-то скрыть. Уже романтикам «Капричос» представлялись некоей волнующей тайной, хотя они и чувствовали еще образное единство, внутреннюю органичность серии Гойи. Во второй половине XIX века исследователи-позитивисты пытались подобрать ключи к «Капричос», расшифровать «скрытое» значение ее отдельных листов, раскрыть заключенные в них намеки на конкретные лица, факты, события эпохи Гойи. Им удалось узнать многое, и благодаря их стараниям Гойя перестал рисоваться лишь гениальным одиночкой-пророком и ясновидцем, каким он казался романтикам, а его серия была понята как произведение испанского просветителя, увидевшего в свете, зажженном французской революцией, мрачную и бесчеловечную реальность своей страны – этого заповедника феодально- католической реакции конца XVIII века. Но, разбирая серию, они незаметно для себя фрагментировали и даже измельчили ее, потеряли представление о ней как о целостном творении. А в своем стремлении, так сказать, «приземлить», конкретизировать, объяснить Гойю с точки зрения «здравого смысла» они, в сущности, игнорировали ту важнейшую особенность его серии, на которую обращал внимание еще Бодлер: а именно – проблему взаимоотношения фантастического и реального. Фантастика казалась им лишь внешним маскировочным одеянием, а вовсе не органической частью живой образной плоти «Капричос». И они склонны были даже сожалеть о том, что Гойе «приходилось» к ней прибегать. Так, В.В. Стасов вслед за Полем Лефором сетует на то, что в «Капричос» очень уж много «умышленных темнот», и, высоко оценивая первую, условно говоря – «бытовую» часть серии, пишет затем: «Одно только досадно: зачем в обеих коллекциях (в «Капричос» и более поздней серии «Диспаратес».— В. П.) так много аллегорий и иносказаний, зачем так много ослов, заседающих перед генеалогическими книгами и едущих верхом на несчастных мужиках, так много обезьян, проделывающих шутки над целою толпою олухов или стригущих друг другу когти, так много медведей, козлов, баранов и овец, так много сов, проповедующих перед монахами, попами и темным людом, так много нетопырей – все это вместо живых людей, которые должны были бы (!) тут быть изображены; наконец, так много фантастических, сверхъестественных фигур, ведьм, крылатых уродов и чудовищ и всякой небывальщины? Но что делать? Обстоятельства требовали, и Гойе без всего этого аллегорического хлама (!) нельзя было обойтись. Однако же не из одних аллегорий и зверей состоят «Капризы» и «Пословицы»... Здесь, как говорится, комментарии излишни. Позитивистский XIX век, век почти самодовольного «здравого смысла», действительно не способен был понять органического единства серии Гойи. Но зато в поисках ключей к отдельным образам «Капричос» он накопил богатый материал, характеризовавший если не саму эту серию, то по крайней мере ту конкретно-историческую почву, на которой она возникла и не могла не возникнуть. Исследователи первой половины XX века – особенно Лога, Майер и Санчес Кантон – еще дальше продвинулись по этому пути Были собраны, систематизированы, изучены подготовительные рисунки к «Капричос», а также те альбомы набросков, которые непосредственно им предшествовали, были найдены аналогии воссозданным Гойей образам в испанской литературе и театре XVI – XVIII веков, в народном фольклоре и лубке, в средневековых скульптурных рельефах, в картинах Босха и Брейгеля. Результаты этих изысканий были с большой обстоятельностью систематизированы и дополнены в фундаментальной монографии И. М. Левиной. Но количество должно было перейти в новое качество. И на рубеже 40 – 50-х годов XX века в трудах Клингендера и Лопес-Рея возникло стремление понять и раскрыть внутренний логичный порядок построения серии Гойи, раскрыть ее образное единство, ее художественную специфику и органичность. Важное значение имели в этом смысле и последующие изыскания Энрике Лафуэнте Феррари, Элеоноры Сайр и Томаса Гарриса. Однако работа эта только еще начата. Серия «Капричос» еще таит в себе много загадок. И мы хотели бы надеяться, что нам в этой предлагаемой вниманию читателя книге удалось еще несколько продвинуться на пути постижения одного из величайших творении Гойи и человеческого гения вообще. Гойя в меняющемся мире. Жил я в безумное время и сделаться так же Безумен Не преминул, как того требовал век от меня. Гётте К моменту завершения «Капричос» Гойе исполнилось пятьдесят два года. За плечами его был большой жизненный и творческий путь, начавшийся в 1760 году, когда он стал учеником сарагосского живописца и «ревизора благочестия» Святой инквизиции Хосе Лусано Мартинеса. В 1763 и 1766 годах Гойя участвовал в конкурсах Мадридской королевской академии Сан-Фернандо, но оба раза терпел неудачу. В 1771 году он побывал в Италии, где в Пармской академии удостоился второй премии за картину «Ганнибал, взирающий с высот Альп на итальянские земли». Вернувшись на родину, он выполнил первые значительные работы — расписал фресками капеллу дворца графа Каэтано де Собрадиель, церкви Ремолинос и Аула Бей, а затем – один из куполов сарагосского собора Санта Мария дель Пилар. К середине 70-х годов он обосновался в Мадриде, и здесь в 1776 году по рекомендации своего шурина, уже, преуспевшего живописца Франсиско Байеу, получил место художника королевской мануфактуры гобеленов. С этих пор в жизни Гойи начинается полоса официальных успехов: 7 мая 1780 года он был единогласно избран членом Королевской академии искусств, в 1785 году стал вице-директором, а еще через десять лет – директором живописного отделения Академии; в 1789 году он, сын простого позолотчика из деревни Фуэндетодос, сделался придворным живописцем короля Карла IV. Ему покровительствовали самые родовитые аристократы Испании – герцог и герцогиня Осуна, герцог и герцогиня Альба; в 1783 году первый министр граф Флоридабланка доверил ему написать свой портрет, в 1786 году его услугами воспользовался король Карл III, а после 1789 года он неоднократно писал портреты Карла IV и королевы Марии-Луизы Пармской, весьма к нему расположенных. Что и говорить, карьера Гойи была блистательной, и этим он очень гордился. И хотя слава его в XVIII веке еще не вышла за пределы Испании, в ней самой она была прочной уже в 80-х годах, а к середине 90-х стала почти непререкаемой. К этому времени творческое развитие Гойи прошло через три этапа. Первый – его можно было бы назвать «годами учения и странствий» - длился с 1760 до 1771 года. Второй – уже отмеченный важными самостоятельными исканиями – начался по возвращении Гойи из Италии и длился примерно до конца 80-х годов. В те годы Гойя полностью освоил традиции позднебарочного пышного и велеречивого, исполненного религиозным пафосом и придворной важностью искусства, которое в середине XVIII века еще обладало официальным авторитетом особенно в тех странах, которые, подобно Италии, Германии и Испании, замешкались в своем историческом развитии. Работая над украшением капеллы дворца графа де Собрадиель, церквей Ремолинос и Аула Дей, Гойя сам проникался торжественно представительным духом этого искусства, его то размеренно величавым, то бурно патетическим ритмом, его императивной и напыщенной жестикуляцией. Недаром здесь он использовал композиционные и живописные приемы самых характерных представителей придворного барокко XVII века – француза Симона Вуэ и итальянца Карло Маратти. В его ранних заказных портретах (например, в «Портрете графа Флоридабланка») царил почти неколебимый дух чинной важности, характерной для придворных портретов-од XVII – начала XVIII столетия. Однако уже с середины 70-х годов в искусстве Гойи обнаруживаются все более решительные изменения. Восемнадцатый век – век кризиса абсолютизма, век пошатнувшихся авторитетов, растущего вольнодумства, всеобщего распространения идей Просвещения, с которыми не могли не считаться даже монархи, - брал свое, подвергал сомнению все привычное, устоявшееся, окостеневшее, неприступное. Сам испанский король Карл III, правивший с 1759 по 1788 год, исповедовал доктрину «просвещенного абсолютизма», а его министры и советники Аранда, Кампоманес, Флоридабланка пытались пробудить Испанию от затянувшейся феодальной спячки, ослабить стеснения средневековых социально-экономических установлений, пробовали ограничить власть церкви и даже самой Святой инквизиции. Важнейшим достижением испанской «просвещенной монархии» в эту эпоху было изгнание из страны иезуитов в 1767 году и папская булла 1773 года о роспуске этого ордена «на вечные времена», которой добился в Риме испанский посланник дон Хуан Моньино, получивший за эту победу титул графа Флоридабланка. «В 1778 году Мадрид представлял одно из отраднейших зрелищ в Европе. Флоридабланка только что стал во главе правительства. Гениальная деятельность Кампоманеса достигла высшего развития. Широкие политические и общественные стремления предшествовавших годов получили практический смысл...». Восемнадцатый век брал свое. Он требовал освобождения из-под ига традиций прошлого. И в искусстве это на первых порах вылилось в дерзкое стремление освободиться от традиционно обязательной важности и выспренности, от придворного этикета и церковной серьезности. Именно это мы и обнаруживаем в творчестве Гойи уже во второй половине 70-х годов. Разбить застывшие схемы позднебарочного искусства помогло испанскому художнику знакомство с творчеством венецианца Джованни-Баттиста Тьеполо, приехавшего в Мадрид в 1762 и умершего здесь в 1770 году. Тьеполо сам был, несомненно, последним великим мастером барокко. Его искусство обладало таким же размахом, пафосом, демонстративностью, стремительной динамикой то концентрирующихся, то разряжающихся композиций, причудливым линейным ритмом, насыщенной декоративностью красок. Именно поэтому его так ценили в тех странах, где традиции прошлого еще преобладали над новыми устремлениями XVIII столетия: его заказчиками были итальянские и немецкие князья церкви, венецианские нобили, испанский король. Но в то же время Тьеполо уже был художником нового века, чудеса и апофеозы, важные исторические и религиозные сцены лишались под его кистью той тяжеловесной утверждающей мощи, какой так поражает барокко. Они, напротив, несли в себе что-то от театрального представления, маскарада, утонченной, а подчас даже пародийной игры в величие. В них причудливо переплетались окрашенные легкой меланхолией воспоминания о былой и уже очевидно невозвратной величавости придворных и религиозных церемоний с новым, радостным чувством освобождения от слишком строгого этикета. Здесь над всем воцарилась поэтическая мечта о чудесном, почти сказочном преображении мира, обретающем легкость, грациозность, блеск, бесконечное и увлекательное разнообразие, в котором «великое» все время соседствует с «малым», официальная риторика – со снижающей, подвергающей ее сомнению житейской шуткой, даже шутовством, театральный апофеоз – с масками «комедии дель арте». И этот освобождающий от закосневших традиций «серьезного» придворно барочного искусства дух живописи Тьеполо был для Гойи подобен свежему ветру обновления. Он раскрепощал его, открывал широкие просторы для свободного полета фантазии, стимулировал естественную, но прежде подавленную склонность испанского художника к радостной неофициальности, веселой «несерьезности». Большое впечатление произвела на Гойю и на редкость изощренная живописная система Тьеполо: нарядная, чуждавшаяся черноты, дерзостная в своих основных декоративных эффектах и в то же время невиданно утонченная, нежная, деликатная в разработке оттенков. Уроками Тьеполо Гойя впервые воспользовался, работая над эскизами для росписи одного из куполов собора в Сарагосе. Но еще более непосредственно они сказались в его светской живописи – в картонах для гобеленов мануфактуры Санта-Барбара. Здесь, не чувствуя более никаких обязательств ни перед алтарем, ни перед престолом, ни перед сословными предрассудками, Гойя впервые обрел свободу творческих устремлений и впервые стал характерным мастером середины XVIII столетия. Здесь вырвалось на простор его собственное упоение многообразием окружающей «неофициальной» жизни, пестрой, как плутовской роман, полной непринужденности и чуждой социальным условностям, церковному благочестию и благочинию. В уличных сценках («Продавец посуды», «Мадридский рынок», 1778; «Офицер и молодая женщина», 1779), в сценах развлечений на лоне природы («Завтрак на берегу Мансанареса», 1776; «Танец в Сан Антонио де ла Флорида», 1777; «Игра в пелоту», 1779; «Молодой бык», ок. 1780) как бы играет сама жизнь. А в таких картинах, как знаменитый «Зонтик» (1777), радость достигает ослепительной концентрации. Подобные сценки развлечений и загородных утех большей частью городского люда сродни «галантным празднествам» Ватто и, подобно им, представляют собой очевидную оппозицию всему официальному искусству и официальным нормам бытия, унаследованным от XVII столетия. Но у Гойи они, во-первых, более решительны в своем утверждении играющей жизни: уже сам крупный формат этих панно и приближенность этих веселых сцен к зрителю делает их гораздо активнее подчеркнуто камерных картин Ватто. А во-вторых, Гойя здесь совершенно чужд той меланхоличности, той одновременно ототмеченной радостью и грустью почти фантастической атмосфере, которая окутывала картины французского мастера. Радость Гойи – это не ускользающая, в чем-то печально недостижимая мечта, но реальное и темпераментно наслаждающееся жизнью чувство. Ее истоки коренятся в неунывающем народном духе. «Празднества» Гойи – это не галантный маскарад; в них подчас проглядывает дерзость уличного карнавала. Здесь играет молодость Гойи, его жажда свободы, успеха, счастья. И, конечно, все это оказалось возможным лишь в той обстановке социального обновления, которым было отмечено царствование Карла III и реальные последствия которого современникам (особенно молодежи) представлялись куда более многообещающими, чем они оказались на самом деле. Если угодно, радость молодого Гойи была даже легкомысленна и легковесна, но она зато была полна искренности и безоглядной юной энергии. Она расцветала в празднестве красок, в непринужденности ритма, в свободе композиций, в естественности народных типажей и жестов. Впрочем, во второй половине 80-х годов искусство Гойи усложняется. Основное его ядро остается по-прежнему радостным, и эта радость даже приобретает временами особо взволнованный смысл и размах. Об этом свидетельствует «Майский праздник в долине Сан Исидоро» (1788; Мадрид, Прадо) – лучшая картина этих лет и один из бесспорных шедевров живописи XVIII века в целом. Вначале «Праздник» был задуман как картон для гобелена, но затем превратился в станковое произведение. И это понятно, поскольку Гойю интересовали здесь в первую очередь пространственные проблемы. А углубление и расширение пространства понадобилось художнику для того, чтобы создать ощущение праздника, как бы охватывающего весь мир: гигантская чашеобразная долина заполнена множеством фигур, экипажей, ярмарочных балаганов, сплетающихся в спиралевидную арабеску, образующую нечто такое, что можно было бы назвать микрогалактикой всеобщего веселья. Однако от этого центрального ядра, этого не ведающего социальной дифференциации, объемлющего мир радостного хоровода уже отпочковываются две новые ветви. Это, с одной стороны, сцены, которые несут в себе характерные признаки именно народной жизни, наводящей подчас на размышления, далекие от беззаботной веселости (таковы «Раненый каменщик», «Зима. Переход через перевал» - обе 1786 г.; «Деревенская свадьба», 1787), а с другой – те, которые, сохраняя радостный тон, воспринимаются уже отнюдь не во всеобщем, но, скорее, в суженном духе светских пасторалей (например, «Осень. Сбор винограда», 1786; «Жмурки» и «Игра в пелеле», 1791). И если первые отмечены новым оттенком серьезности, связанной с осознанием трудного и значительного жизненного пути простого человека, то вторые – теперь уже нарочито беззаботные и подчеркнуто изящные – даются в несколько шутливом и даже подчас ироническом ключе. Нарастающей материальной несомненности образов таких картин, как «Зима» или «Деревенская свадьба», противостоит некоторая неопределенность физического существования персонажей «Жмурок» и «Игры в пелеле», подчас почти кукольных и движущихся наподобие марионеток. Композиционной строгости, ритмической четкости и цветовой определенности первых, заставляющих даже сопоставлять Гойю с новым классицизмом, противостоит прихотливость, разнеженность, игривость и призрачность вторых, вызывающих в памяти творения художников рококо – Пьетро Лонги и даже Фрагонара. Гойя несомненно любуется этими красивыми резвящимися куколками, сам испытывая при этом радость, но к ней постоянно примешивается ирония, направленная не только на то, что изображает живописец, но и на него самого, на его еще сохранившуюся способность увлекаться такими «безделками». Любопытно отметить, что те же черты милой, но хрупкой, лишенной доподлинности и воспринимаемой чуть иронически кукольности появляются и в заказных светских портретах Гойи – таких, например, как «Портрет маркизы Анны Понтехос» (1787; Вашингтон, Национальная галерея) или «Семейный портрет герцога и герцогини Осуна» (1789; Мадрид, Прадо). Мировосприятие Гойи утрачивало былую цельность. Жизнь переставала быть всеобщим празднеством, галактикой радости. Она раскрывала художнику свою повседневную серьезность, а радость, утратив вселенский, общенародный характер, сама как будто теряла жизненную энергию, становилась хрупкой мечтой, привлекательной, но в чем-то уже никчемной безделушкой. Счастье становилось воображаемым, комедийным и комическим, развлекающим и отвлекающим от реальности театром марионеток. Интересно, например, отметить, насколько неуловимым оказывается в картине «Игра в пелеле» отличие тряпочной куклы, весело подбрасываемой на одеяле, и тех людей, которые тешатся этой игрой. Эта новая и в известной мере роковая для Гойи идея сомнительности полного и подлинного счастья предвещает кризис всего его миросозерцания. И этот кризис составляет суть третьего и последнего этапа его развития как художника XVIII века, периода, непосредственно предшествующего созданию «Капричос». Уже к концу 80-х – началу 90-х годов Гойя испытывает неудовлетворенность всем тем, что прежде делал с таким удовольствием. Он манкирует своими обязанностями живописца мануфактуры гобелена, принуждая в 1790 году ее директора жаловаться королю, что Гойя «совершенно ничем не занят, ничего не пишет и ничего не хочет писать». Сам художник еще в 1788 году в письме к своему сарагосскому другу Мартину Сапатеру сетует: «Если бы обо мне забыли, я смог бы посвятить свое время тем произведениям, которые меня интересуют. Этого мне больше всего не хватает». Светские развлечения, которым он еще так недавно отдавался с восторгом и энергией, теперь утомляют его. Он чувствует себя внезапно состарившимся, его снедает неясная встревоженность, временами выливающаяся в крайнюю раздражительность и даже мизантропичность. Осенью 1792 года Гойя, гостивший в Кадиксе у своего друга Себастьяна Мартинеса, тяжело заболевает. Характер его болезни до сих пор точно не установлен, но проявления ее были ужасны: художника мучили жестокие головные боли, на время он потерял чувство равновесия и почти ослеп. К концу марта 1793 года потеря равновесия и ослабление зрения исчезли, но стремительно развившаяся за время болезни глухота стала абсолютной. Отныне Гойя мог объясняться с окружающими лишь с помощью знаков и записок. Болезнь то отпускала художника, то возвращалась. Так, из дневника друга Гойи Ховельяноса мы узнаем, что в феврале 1794 года ее приступы повторились 10, а в апреле 1797 года Гойя вынужден был «по болезни» оставить пост директора живописного отделения Академии Сан-Фернандо, который занял за два года до этого. Мы ни в коей мере не можем уменьшать значения личного несчастья, обрушившегося на Гойю, угрожавшего его жизни, а затем отступившего, унеся, однако, с собой не только его слух, но и молодость. Это было жестокое испытание, тем более страшное для человека, столь жадного к жизни, к ее радостям, блеску, шуму, разнообразию. Теперь мир для него замолк, погрузился в давящее безмолвие, которое, кстати сказать, так трагически ощущается в его «Капричос». Но в то же время мы не можем сводить все, или хотя бы главные изменения творчества Гойи, к этому личному несчастью, тем более что художник проявил редкое мужество в борьбе с болезнью. Он почти все время продолжал работать. Глухота даже обострила его зрительное восприятие". А кроме того, он вовсе не полностью утратил способность радоваться жизни. Только радость эта отныне и уже навсегда будет соединена с тревожным и напряженным чувством ее мимолетности, уязвимости. Она станет вспышкой света во мраке, озарением в безмолвных сумерках. Мировоззрение Гойи начало изменяться еще до его болезни. Выше уже говорилось о неудовлетворенности, испытываемой художником с конца 80-х годов, об идее сомнительности счастья, об иронии и самоиронии, угнездившихся в самых, казалось бы, безмятежно радостных картинах этих лет. Все это было не только результатом возраста, отнимающего веселье юности и несущего с собой более «умудренное» восприятие жизни. Но в еще большей мере – результатом резких перемен испанской действительности. Уже к концу царствования Карла III надежды на обновление жизни в пределах доктрины «просвещенного абсолютизма» начали тускнеть. Реформы Аранды, Кампоманеса и Флоридабланка, несомненно, пробудили испанское общество, вызвали прилив новых сил и стремлений, которые, однако, сразу же ощутили, насколько тесными были границы всех этих шедших от подножия трона послаблений. Самые радикальные из испанских либералов уже начинали по примеру своих французских собратьев-энциклопедистов понимать несовместимость Просвещения и абсолютизма, хотя бы и возжаждавшего реформ. Особенно остро все это воспринимал экономист, философ и писатель Гаспар Мелхиор Ховельянос, который еще в 1778 году стал самым близким соратником и советчиком министра финансов Кампоманеса. Ховельянос был всего на два года старше Гойи. Он принадлежал к тому же поколению людей молодой Испании, которая, говоря словами поэта Мануэля Кинтаны, хотела порвать с «двумя столетиями невежества». Он перевел на испанский язык самый антифеодальный и антиабсолютистский трактат Жан-Жака Руссо – знаменитый «Общественный договор», ставший впоследствии настольной книгой французских якобинцев. В своих многочисленных работах Ховельянос обращал внимание современников на тягостную отсталость страны, нищету крестьянства, духовный гнет инквизиции, развращенность высшего общества, пагубный яд предрассудков, отравляющий Испанию. И с этим-то человеком Гойя познакомился еще в конце 70-х и сблизился в 80-е годы. Позже Гойя сблизился с поэтом Хуаном Мелендесом Вальдесом, автором сатирической «Оды о фанатизме», актером Исидором Ман-кесом – вольнодумцем, познавшим тюрьмы инквизиции, поэтом и драматургом Леандро Моратином, впоследствии разделившим с ним изгнание, с другим поэтом и, пожалуй, самым неистовым испанским либералом Мануэлем Кинтаной, который в «Оде на книгопечатание» осмелился назвать папскую курию «вертепом чудища, что властвует над миром и безнаказно в нем рассеивает зло», и который впоследствии посвятит Гойе бунтарскую «Оду Падилье». В общении с этими людьми мысли Гойи направлялись по новому руслу. Жизнь представала перед ним в истинном свете, в реальных противоречиях, вопиющей неразумности. И все это резко обострилось после того, как в1788 году умер Карл III, а его преемник, сорокалетний, засидевшийся в инфантах Карл IV, разом отказался и от «просвещенного абсолютизма», и от политики реформ, и от ущемления интересов церкви в пользу если не интересам свободы, то хотя бы интересам короны. Карл IV, как и его французский собрат и родственник Людовик XVI, вовсе не был злокозненным тираном. Он был всего лишь невероятно безвольным, недалеким правителем. И без того нерасположенный к либеральным идеям предыдущего царствования (сразу же по восшествии на престол он уволил в отставку Кампоманеса, а в 1790 году сослал Хо-вельяноса, он еще более резко повернул на путь реакции в начале 90-х годов в страхе перед разразившейся Великой французской буржуазной революцией. Впрочем, личная «воля» Карла IV значила не так уж много. «Карл IV был одним из тех людей, которые украшают троны, когда в стране пробивает час революции. Высокий мужчина огромной физической силы, он был совершенно лишен ума и характера. Его любимым занятием являлись религиозные церемонии и охота. Он был хороший кучер, часовщик, слесарь, но ничего не понимал в государственных делах и не питал к ним никакого интереса... Это был классический тип монарха, который немыслим без камарильи и при котором камарилья заправляет всеми дворцовыми и государственными делами». Истинными хозяевами Испании были властная, взбалмошная, чудовищно безобразная и столь же распутная королева Мария-Луиза Пармская и ее фаворит Мануэль Годой, превратившийся в начале 90-х годов из простого гвардейца, потомка заштатных эстремадурских дворян, в маршала, маркиза, герцога, кавалера ордена Золотого руна, первого министра (для того чтобы освободить это место для Годоя были в 1792 году уволены в отставку сначала граф Флоридабланка, а затем и сменивший его ненадолго Аранда – последние представители эпохи «просвещенного абсолютизма»), капитана гвардии, личного секретаря королевы, адмирала Испании и Индии, президента Академии художеств, а также директора кабинета естественных наук, ботанического сада, химической лаборатории и астрономической обсерватории. В 1795 году Годой получил титул князя Мира со званием «высочества», а в следующем году породнился с правящей династией, женившись на принцессе королевского дома. Странную картину являл этот двор, охваченный страхом, который чем дальше, тем все больше внушала ему соседняя Франция (особенно после казни Людовика XVI), и все же продолжавший жить по принципу «после нас хоть потоп», погрязший в интригах, взаимной вражде, всевозможных пороках, тупо отвергавший любую мысль о реформах и стремившийся толкнуть страну туда, откуда предшествовавшее царствование пыталось ее вывести. Испанские Бурбоны вели себя так же безрассудно, как и последние французские. Но те поплатились за это уже в 1789 году. В Испании же тогда не нашлось сил, способных не только что опрокинуть королевскую власть, но хотя бы заставить ее жить в рамках обыкновенных приличий. Трагедия Испании состояла именно в том, что если сильные мира сего не желали никаких послаблений, то либеральная оппозиция была слишком слаба, а нация – слишком скована силой вековых привычек, чтобы быть способной на революцию. Ни реформистского, ни революционного прогресса – это означало застой, разложение, гниение общества. И это на фоне все той же Франции, ее борьбы, ее громогласных лозунгов, провозгласивших наступление «царства разума», свободы, равенства, братства, на фоне «Декларации прав человека и гражданина»! Весной 1793 года испанские Бурбоны примкнули к первой антифранцузской коалиции, а последовавший за этим сокрушительный разгром, приведший войска якобинского Конвента под стены Сарагосы и Барселоны, продемонстрировал полное ничтожество и слабость испанской монархии, державшейся только потому, что внутренняя оппозиция была еще слабее. Все же этот разгром оказался весьма благотворен для развития оппозиции, хотя объектом ее нападок была не сама монархия (якобинский террор напугал не только двор, но и либералов), но лишь «злоупотребления» и «ошибки» этой последней, а предметом ненависти был не король (он внушал, скорее, презрительную жалость), а «партия королевы» и особенно – Годой. В 1794 году народ Мадрида открыто выражал свой протест против бездарной политики Годоя и непомерных расходов двора. Раздавались такие речи: «Пора явиться французам и прогнать господ, которые не умеют управлять. Пусть придут они: мы примем их с радостью». В том же году при дворе составился заговор с участием самого Великого инквизитора, поставивший своей целью удаление Годоя, но не увенчавшийся успехом. Угроза похода французов на Мадрид, а также и внутренние осложнения заставили Карла IV порвать с коалицией европейских монархов. В 1794 году были начаты переговоры с Францией, а 22 июня 1795 года в Базеле был подписан мирный договор. В 1796 году испанские Бурбоны даже вступили с французской республикой в «наступательный и оборонительный союз», направленный против Англии и уже в следующем году обернувшийся для страны серией сокрушительных поражений и чудовищным бюджетным дефицитом. Испания оказалась втянута в орбиту французской политики, а Годой то заигрывал, то прямо лебезил перед представителями Директории. И в результате все сколь- нибудь принципиальные испанцы должны были сгорать от стыда: реакционеры – при виде противоестественного союза Карла IV Бурбона с теми, кто отправил под нож гильотины Людовика XVI Бурбона; либералы, - сравнивая прогнившие порядки испанской монархии и обновленную революцией Францию, свое бессилие и энергию французских революционеров. Что мог чувствовать в эти годы реакции, позора и национального бессилия Гойя, отлично знавший все тайны мадридского двора (ведь с 1789 года он был придворным художником) и в то же время связанный с самыми возмущенными и ожесточившимися представителями либеральной оппозиции. Письма художника молчат об этом. Зато его творчество необычайно красноречиво, хотя и представляет известные трудности для анализа, поскольку датировки ряда картин, по традиции относимых к этому периоду, еще не получили достаточной определенности. Первая половина и середина 90-х годов ознаменовались едва ли не высочайшим в творчестве Гойи расцветом портретной живописи. Можно даже утверждать, что в это время портрет впервые стал ведущим и главнейшим жанром его живописи (вторично это произошло лишь в середине 20-х годов XIX века, в последний период жизни Гойи, ставшего уже бордосским изгнанником). При сравнении портретов 90-х годов с теми, которые были созданы раньше, прежде всего бросаются в глаза два обстоятельства. Во-первых, нарастание самостоятельной значимости образа человека, не поглощаемого более пышными аксессуарами, как то было в барочном одоподобном «Портрете Флоридабланка», не отступающего в идиллический пейзаж и не растворяющегося в зыбко переливчатой серебристой дымке, как то было в портретах Анны Понтехос или семейства Осуна. Образ человека как бы сконцентрировался в себе самом, приобрел несомненность и независимость индивидуального существования, стал единственным объектом внимания художника. Гойя, прежде шедший к человеку от и из общего представления о мироздании, теперь радикально меняет свою точку зрения. Не человек познается через мир, но, напротив, мир можно понять, лишь познав реальную сложность людских характеров, побуждений, стремлений, иначе говоря, - конкретные возможности человека. Мир таков, каким его делают люди, мир дает человеку то, чего он заслуживает, чего он может от него добиться. Пойми человека, и тогда поймешь жизнь в целом. Нет ничего удивительного в том, что в годы сомнений, в годы осознания неразумности всей испанской действительности Гойя обратился к человеку как первоисточнику и первопричине той или иной организации общественного бытия. Отсюда вторая важная черта этих новых портретов – их аналитический характер, их строго объективный реализм. В ранних портретах Гойи на первый план выдвигалась либо сословная идея, либо некое общее представление о красоте (хотя бы даже и чуть иронизирующее над самим собой). В том и в другом случае между художником и его моделью вставала избирательно субъективная призма. Теперь же она отбрасывается. Идеальная маска спадает или становится предельно проницаемой для пристального, непредубежденного взора художника. Человек полностью отвечает за себя сам в меру своих личных способностей и качеств вне зависимости от занимаемого им положения, а подчас даже вопреки ему. Такой объективно аналитический взгляд на вещи, с одной стороны, воскрешает в творчестве Гойи великую традицию реализма Веласкеса, ту высшую, почти божественную справедливость суждений о человеке и воздаяния ему «по делам его», которая была столь характерна для гениального испанского художникаXVII столетия, а с другой стороны – предвосхищает уже лучшие достижения портрета XIX века (Энгра, Мане, Дега.) Среди же современников с Гойей здесь мог соперничать только Давид – создатель таких произведении, как «Портрет м-м Трюден» (ок.1793), портреты супругов Серизиа, молодого Энгра (вторая половина 90-х годов). Конечно, для такого суждения о человекесовременнике нужно было обладать мужественным и трезвым взглядом на жизнь. Но век требовал именно этого, ибо, как писал чуть ранее Шамфор: «Мало кто решается неуклонно и безбоязненно руководствоваться своим разумом и только его мерилом мерить любое явление. Настало, однако, время, когда именно такое мерило следует применить ко всем нравственным, политическим и общественным вопросам, ко всем монархам, министрам, сановникам, философам, к основам наук и искусств и т. д. Кто неспособен на это, тот навсегда останется посредственностью». Гойя оказался способным призвать действительность на суд трезвого разума. В этом смысле особенно интересен «Портрет Карла IV в охотничьем костюме» (1790; Мадрид, Прадо), пожалуй, самый «веласкесовский» в творчестве Гойи. Он прямо восходит к портретам Филиппа IV, обладает такой же внешней представительностью, передает значительность сана. Король – это король. Но, как когда-то Веласкес, Гойя не ограничивается одной этой очищенно репрезентативной схемой. Он приглядывается внимательнее. Его взгляд становится проницательным, не затуманенным никакими иллюзиями, никаким придворным пиететом. Король подобен монументу. Но это – монумент, лишенный подлинной монументальности. Внешняя импозантность лишь неловко маскирует вялость и бесхарактерность. Величавость оборачивается банальной грузностью рано состарившегося, обрюзгшего, духовно погасшего человека. Идол оказывается ничтожеством и даже обнаруживает черты мелкого тщеславия, мещанской примитивности души. Чего стоит хотя бы съехавшая набок шляпа или ордена, ненужные и даже нелепые на охотничьем наряде короля. В светских портретах второй половины 80-х годов была ирония по отношению к модели, но ирония добрая, переплетающаяся с любованием этими изящными марионетками. Теперь доброта и любование исчезли, марионетка стала отталкивающе реальным манекеном, а ирония приобрела саркастический оттенок. В светских портретах второй половины 80-х годов была ирония по отношению к модели, но ирония добрая, переплетающаяся с любованием этими изящными марионетками. Теперь доброта и любование исчезли, марионетка стала отталкивающе реальным манекеном, а ирония приобрела саркастический оттенок. Отношение Гойи к действительности становится не только объективным, чуждым привычных представлений или успокоительных иллюзий, но еще и активным; это естественное следствие его нового аналитического метода. Жизнь нужно не только впитывать в себя, но и оценивать по заслугам. И оценка совершается в контрастах и взаимосвязи отрицания и утверждения. Чем яснее видит Гойя несовершенство определенной категории людей, тем более жадно ищет он черты совершенства на другом полюсе бытия. И теперь он уже не шутит, не иронизирует. В «Портрете маркизы Соланы» (ок. 1791 – 1792 годов; Париж, Лувр) – внешне близком к портрету Анны Понтехос – та же самая субтильность, хрупкость физического облика модели вызывает глубокое и обеспокоенное человеческой судьбой сопереживание, желание как-то сберечь и защитить человека от надвинувшегося со всех сторон сумрака. Искусство Гойи стало трепетно человечным, необычайно внимательным к душевным глубинам личности, осторожным в их исследовании. В то же время, как и в наиболее «романтичных» портретах Гейнсборо, красота здесь приобретает оттенок таинственности, некоего одухотворенно хрупкого чуда. Утверждение в творчестве Гойи приобрело черты печального, почти стоического благородства, какими отмечен, например, «Портрет поэта Мелендес Вальдеса» (1797; Англия, Баус-музеум) и особенно - портрет шурина Гойи, живописца Франсиско Байеу (1795; Мадрид, Прадо). Этот посмертный портрет – не только дань уважения, но еще и утверждение высокого достоинства, истинного аристократизма человека, отмеченного печатью таланта. И все это особо знаменательно по контрасту с портретами короля, этих достоинств лишенного. Здесь мы сталкиваемся с развитой передовым французским искусством еще до революции 1789 года идеей особых прав, которые дают человеку не его сословное происхождение, не официальное положение, не родословная, но исклю чительно его личные «добродетели», его разум и дарования. Эта идея приоритета личного над сословным, «естественных прав» над традиционными социальными установлениями в принципе уже революционна. И она, будучи утвержденной хотя бы однажды, не могла уже не стремиться ко все более активному и уже не только нравственному, но также и социальному самоутверждению. И в следующие годы Гойя создает два поразительных в этом смысле портрета: один – портрет посла французской республики в Мадриде, врача, члена Конвента, участника суда над Людовиком XVI Фернана Гиймарде (1798; Париж, Лувр), другой – портрет испанца, либерала и тоже врача Пераля (1796 – 1797; Лондон, Национальная галерея). С первым все было просто и ясно. Гойя впервые близко соприкоснулся с человеком из будущего, из нового мира, созданного французской революцией, человеком свободного волеизъявления, уверенного в своих неотъемлемых правах и готового отстаивать их со всей возможной энергией. Здесь читается дерзкий вызов прошлому. Здесь посол Франции с чуть даже наивной горделивостью позирует перед художником из «страны деспотизма», не забывая картинно отставить в сторону руку, чтобы все видели его трехцветный шарф – знаменитый французский «триколор», приводивший в бешенство тогдашних «тиранов» Что же касается «Портрета доктора Пераля», то здесь все было сложнее, хотя и отмечено, быть может, не меньшей энергией, но пока по необходимости скрытой, запрятанной в глубине души, скованной тем миром, в котором жил и развивался этот поистине протоякобинский характер. Весьма показательно уже то обстоятельство, что Гий-марде изображен во весь рост, свободно расположившимся в залитом светом поле холста, тогда как композиция портрета Пераля поколенна, поза его несколько скована, жест руки, заложенной за борт жилета в цветочках «a la Robespierre», полон напряжения, а фон – это сгущающийся сумрак, частично поглощающий фигуру, частично же резко прорываемый ее мощно лепящимися объемами. Снисходительно самоуверенному взору француза противополагается отчужденная, пронизывающая и оценивающая сила взора испанца, странное соединение почти высокомерного самоутверждения, презрения к неразумному миру (достаточно обратить внимание на презрительно искривившиеся губы Пераля) и подавляемой, но все же проступающей горечи. Это испанец эпохи позора его страны, осознающий этот позор, трагически переживающий его, полный горечи и злости. Именно накапливающаяся в этом портрете ярость составляет его особое, почти мрачное благородство. И характерно, что эта маска презрения и гнева, это выражение оскорбленной совести Испании будет вновь повторено через год в том «Автопортрете», который Гойя выполнит как общий титул для серии «Капричос». Собственно, от «Портрета доктора Пера-ля» можно уже непосредственно переходить к «Капричос», но мы чуть отдалим этот переход, чтобы сказать еще несколько слов о тех необычайных полубытовых-полуфантастических картинах, к которым Гойя так привязался в середине 90-х годов. Как известно, Гойя, даже еще будучи не совсем здоров, вновь начал работать, но не над большими композициями или заказными портретами, а над маленькими картинами. 4 января 1794 года он писал Бернардо Ири-арте, профессору Академии Сан-Фернандо: «Чтобы занять мое воображение, угнетенное созерцанием моих бед, а также для того, чтобы хотя бы частично возместить чрезмерные траты, которые они мне причинили, я написал ряд картин кабинетного размера, где мне удалось сделать некоторые наблюдения, невозможные обычно в заказных работах, в которых не получают развитие ни фантазия, ни изобретательность». Далее Гойя говорит о своем намерении представить их на суд профессоров Академии и просит Ириарте предварительно ознакомиться с ними и выступить «покровителем этих картин и моим тоже». Из следующего письма Гойи, помеченного 7 января, выясняется, что картины были привезены в дом Ириарте, что их смотрели и благосклонно приняли профессора Академии. Но совершенно неясно, что это были за картины. Правда, в том же письме Гойя просит позволения послать Ириарте еще одну картину. «Ту, которую я начал и которая представляет двор убежища для умалишенных (un corral de locos), где два нагих сумасшедших дерутся с бьющим их служителем, а остальные одеты в мешки (подобную сцену я видел в Сарагосе). Я пошлю ее Вам, чтобы она дополнила те, которые уже находятся у Вас». Эти слова Гойи позволили датировать 1794 годом известную, хранящуюся в Академии Сан- Фернандо картину «Дом умалишенных». Однако изображенная там сцена не совпадает с той, которая описана в письме к Ириарте. Известно также, что в начале января 1794 года Гойя послал в Академию одиннадцать картин, посвященных, как говорилось в сопроводительном письме, «разнообразным народным развлечениям». И вновь неясно, что это были за произведения и можно ли отождествить их с теми, покровительствовать которым Гойя просил Ириарте. По традиции, в их число обычно включают хранящиеся ныне в Академии Сан-Фернандо картины «Деревенская коррида», «Сцена карнавала», «Похороны сардинки», «Процессия флагеллантов», «Заседание трибунала инквизиции» и даже уже упоминавшийся «Дом умалишенных». Но если к первым трем вполне применимы слова о «народных развлечениях», то к остальным оно уж никак не подходит. Сомнительна и сама возможность отсылки в Академию в начале 1794 года – то есть в самый разгар реакции – такой картины, как «Трибунал инквизиции». Наконец, и живописная манера всех этих работ весьма различна, и это заставляло уже многих исследователей высказывать предположение, что по крайней мере некоторые из них были выполнены гораздо позже. Это относится к мадридскому варианту «Дома умалишенных», «Процессии флагеллантов», «Трибуналу инквизиции» и особенно – необычайно смелым по живописи «Похоронам сардинки», которые нередко датируют первым и даже («Похороны сардинки») вторым десятилетием XIX века. Традиционная датировка этих картин – 1793 – 1794 годами – основана также на родстве их трагически гротескных образов и общего мрачно напряженного колорита с офортами «Капричос». Но поскольку в настоящее время можно с уверенностью утверждать, что эта серия была создана в 1797 – 1798 годах, то и дата вышеперечисленных живописных работ должна быть отодвинута, причем, возможно, они даже не предшествовали «Капричос», а сами составили свиту этой серии, стали ее прямым отголоском в живописи. Что безусловно входило в число одиннадцати посланных в 1794 году в Академию картин, так это «Деревенская коррида», «Сцена карнавала» и еще, быть может, очаровательная картина «Комедианты» из собрания маркиза де Кастро Серна в Мадриде. Эти мелкофигурные. подчеркнуто жанровые и чуть идиллические или романтизирующие сцены воплощают в себе радости «малого мира» - все, что осталось теперь от той «галактики счастья», какая торжествующе развертывалась в творчестве Гойи 70 – 80-х годов. Что же касается картин, в которых могла развиться «фантазия и изобретательность», то помимо упомянутого в письме к Ириарте «Дома умалишенных в Сарагосе» таковыми вполне могли быть также и восемь составляющих единую серию (кстати, тоже малого, то есть «кабинетного» формата) живописных работ, выполненных Гойей для домашнего театра замка Аламеда, принадлежавшего его давним покровителям герцогу и герцогине Осуна. Картины эти изображают либо пародийно-фантасмагорические сцены из испанской драматургии («Лампа дьявола» - сцену из комедии Антонио Самора «Очарованный поневоле»; «Каменный гость» - из комедии Тирсо де Молина «Севильский обольститель»), либо сцены колдовства («Кухня ведьм») и шабаша («Ночь шабаша»; «Шабаш. Большой козел»). Датировки их также довольно зыбки. Некоторые исследователи относят их к 1793 году, другие к 1798 , а иные делят серию на две части, относя к 1793 году картины на темы театра, и к 1798 – колдовские сюжеты, хотя в стилистическом отношении они совершенно однородны и к тому же идентичны по размерам (примерно 40X30 см). Нам представляется, что вся эта серия была написана одновременно и вряд ли после создания «Капрргчос». Она предназначалась для украшения театра, частично писалась на комедийные сюжеты и представляла собой некую игру фантазии художника. Эти черты, как и известная декоративность их живописи (например – «Шабаш. Большой козел»; Мадрид, музей Ласаро Галдиано), сближает их с поздними картонами для того же замка Аламеда (1787). Однако эта близость не идет дальше некоторых чисто формальных моментов. Комедийные элементы тщательно сглаживаются даже там, где они могли быть продиктованы сюжетом (см., например «Лампа дьявола; Лондон Национальная Галерея), а фантастика впервые в творчестве Гойи приобрела зловещий, колдовской характер. Мир внезапно вывернулся наизнанку, обнажив свои адские глубины. Свет солнца, прежде нередко ослеплявший на картинах Гойи, сменился густым, вязким мраком ночи, в котором без труда «плавают» причудливые фигуры грешников, уносящих ввысь ведьму («Ночь шабаша»), и который не может победить ни свет факелов («Кухня ведьм»), ни мерцание чадящих светильников («Лампа дьявола»). Фигуры человекоподобных существ, действующих здесь, конвульсивно мечутся, творя свои злые и пакостные дела. Перед нами оживают видения Брейгеля, паясничают маски Калло, циничные издевки генуэзца Маньяско, клубится всякая нечисть, радующаяся сумраку ночи, и уродливый монах еще подливает масла в лампу, протягиваемую ему дьяволом, в то время как за его спиной кривляются гигантские ослы. Вот мы и подошли вплотную к «Капричос», соприкоснулись с особой, мрачно гротескной их атмосферой. Эти картины представляют собой другую сторону той же ярости, той же благородной злости против превратного мира, которая с такой силой была воплощена в «Портрете доктора Пераля». И обе они сольются в «Капричос», достигнут невиданного накала, превратив эту серию в творение возмущенного разума, восставшего против тьмы, безумия, предрассудков. Заключение. И в заключение еще несколько слов. «Капричос», собственно, потому и представляют столь великое и сложное произведение, что в них в трагедийной форме воплотились и переплелись острейшие проблемы глубоко кризисной исторической ситуации конца XVIII столетия и перехода в XIX век, связанный с этим перелом в мировосприятии и в судьбах искусства, и, наконец, личная драма Гойи, боровшегося с жестокой болезнью и переживавшего финал своей последней, самой счастливой и самой несчастной любви. Жизнь втолкнула Гойю в мир «Капричос», чтобы в нем через отчаяние и надежду, страх и сострадание, переживание и постижения привести к нравственному очищению, возвысить и полностью переплавить его как человека и как художника. Здесь он как бы разом разрубил тугой узел противоречий времени и личной драмы. Здесь родился новый Гойя – тот, который мог уже воспринимать жизнь не дуалистически, в полном противопоставлении манящей мечты и отталкивающей, взывающей к суду разума действительности, но в целом, во всей полноте и во всей необходимости ее реального бытия, в мощной динамике разрушений и становлений. И новая героиня романтической эпохи – непокорная энергия человеческих устремлений, принимающая мир как он есть и все же вновь и вновь бросающая свой вызов неизбежному вызывается на поверхность, страстно вспыхивает уже в период завершения «Капричос» в свободном волеизъявлении Фернана Гиймарде (1798), в неистово утверждающей жизнь оргии красок и движения, в каком-то еретическом духе росписей церкви Сан Антонио де ла Флорида (1798), в откровенной фарсовости портрета семьи Карла IV (1799 – 1800). А затем – уже в эпоху наполеоновского нашествия – эта энергия найдет себе поистине сокрушительную форму в ярости, муках, ожесточенных порывах и героическом противостоянии действительности знаменитых офортов «Бедствий войны». И если в «Капричос» Гойя раскрыл цепкость зла и показал, с каким трудом уходил старый век, то в следующей серии ему предстояло высказать всю истину о том, какой страшной ценой оплачивалось рождение века нового. Список использованной литературы: 1. ««Капричос» Гойи» - В. Прокофьев изд. Москва 1970г.; 2. «Капричос» - Н.Д. Горбунова, А.М. Грудинова изд. «Центр Рой» 1992г. Оглавление. Введение. 2 Гойя в меняющемся мире. 6 Заключение. 22 Список использованной литературы: 23 |
|
© 2000 |
|