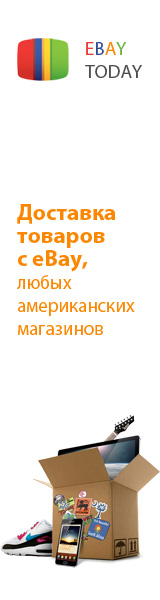|
РУБРИКИ |
Катынская трагедия |
РЕКЛАМА |
||
|
Катынская трагедияКатынская трагедияКатынская трагедия. Катынь... Для поляка имя этого местечка на Смоленцине говорит очень о многом. Оно говорит и о Советском Союзе, и о судьбе Польши, и о советской политике по отношению к польскому народу. Четыре тысячи из четырнадцати расстрелянных польских офицеров были обнаружены в катынских могилах, о могилах остальных десяти тысяч точно ничего не известно. На мой взгляд, главной причиной катынской трагедии является установление в России тоталитарной системы, которая оказывала свое непосредственное влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику государства. Эта система включает в себя следующие элементы: насильственное установление однопартийной системы; уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии; «захват государства партией», т.е. полное сращивание партийного и государственного аппарата, превращение государственной машины в орудие партии; ликвидация системы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; уничтожение гражданских прав и свобод, вплоть до права на жизнь (что и показывает катынская трагедия); построение системы всеохватывающих массовых общественных организаций, с помощью которых партия обеспечивает контроль над обществом; унификация (приведение к единообразию) всей общественной жизни; авторитарный способ мышления; культ национального вождя; массовые репрессии. К концу 30-х годов ВКП(б) в значительной мере изменила свой собственный облик, утратила минимальные остатки демократизма. Тоталитаризм – это цена, которую заплатил народ за претворение в жизнь сталинских амбиций. Одной из предпосылок для установления тоталитаризма, а также явной демонстрацией его потенциальных возможностей, стало убийство члена Политбюро ЦК, секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) С. Кирова 1 декабря 1934 г, а также суд над его убийцами. В их убийстве обвинили Г. Зиновьева, Л. Каменева и др. соратников Ленина. На суде прокурор А. Вышинский потребовал: «Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного!» Суд удовлетворил это требование. Это убийство, как я полагаю, можно считать своеобразной «точкой отсчета» нового страшнейшего периода в истории России… Польские военнопленные в Советском Союзе В ночь с 23 на 24 августа 1939 года Риббентроп и Молотов подписали в Москве так называемый пакт о ненападении, превративший недавних врагов в друзей, а также тайный протокол к этому договору[1], определяющий границы между двумя державами после очередного раздела Польши. Договор этот, ратифицированный 31 августа Верховным Советом СССР, развязал вторую мировую войну. В течение первых 16-ти дней сентябрьской кампании немецкий посол в Москве фон Шуленбург настоятельно требовал от советской стороны соблюдения условий договора, а именно: нападения на Польшу. Это произошло в 3 часа ночи с 16 на 17 сентября. Польское правительство не сочло нужным юридически определить отношения между СССР и Польшей после этой агрессии, а главнокомандующий, маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, в 16 часов того же дня выступил с так называемой «общей директивой» — приказом не оказывать сопротивления наступающим частям Красной Армии. Последствия были трагичны. То, что Польша официально не находилась в состоянии войны с СССР, лишило интернированных поляков прав военнопленных, превращая их, в понимании советских властей, в контрреволюционные элементы, задержанные с оружием в руках на территории СССР. Халатность польского правительства лишила страну возможности апеллировать к международному общественному мнению, чтобы однозначно назвать двух агрессоров, объявив их, согласно реальным фактам, державами-союзницами. Солдаты и офицеры младшего и среднего составов, дислоцированные в восточных воеводствах, были полны решимости дать заслуженный отпор новому агрессору. Но, к сожалению, большинство генералитета и высшего офицерского состава придерживались иной тактики: еще до получения «общей директивы» Рыдза-Смиглого они начали спонтанно выполнять ее. В рядах польских войск это вызвало огромное замешательство. А так как правительство не побеспокоилось о том, чтобы предупредить солдат об опасности советского плена, многие добровольно сдавались Красной Армии. Тем не менее часть польской армии оказала сопротивление, продолжавшееся приблизительно до 1-го октября. На основании известных данных (на 17 сентября) о численном составе и вооружении польских частей на восточных границах страны можно утверждать, что организованное сопротивление советской армии было возможным, по крайней мере, в течение 10 дней. В боях можно было использовать до 300 тысяч солдат. Эти силы располагали значительными запасами оружия. Выступая 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета, Вячеслав Молотов отметил, что в числе трофеев Красной Армии оказалось: 900 орудий и миллион артиллерийских снарядов, более 10000 автоматов, свыше 300 тысяч винтовок и 150 миллионов патронов к ним. Поражение, однако, было бы неизбежным. Сопротивление ставило бы себе целью не столько дать отпор новому агрессору, сколько привлечь внимание всего мира к еще одному фронту в Польше и показать согласованность действий Советского Союза и фашистской Германии. Это могло бы иметь решающее значение для будущего Польши. Более того, вооруженное сопротивление советской агрессии давало большие шансы на спасение солдат и офицеров, участвующих в боях. Отступление же с восточного фронта в направлении немецкого театра военных действий давало бы возможность сдаться в плен Вермахту, что, в свою очередь, гарантировало бы польским офицерам возможность пережить войну в лагерях для военнопленных офицеров. Знаменателен факт, что те генералы и офицеры, которые пытались установить хоть какой-нибудь контакт с представителями советской армии, почти все погибли. Командующий Гродненским военным округом генерал Юзеф Ольшина-Вильчинский вместе с группой своих офицеров был убит под Сопочкинями подразделением советских войск в тот момент, когда пытался вести с ним переговоры. Генерал Мечеслав Сморавинский, который 17 сентября, еще до получения приказа Рыдза-Смиглого, запретил своим частям в Збаражу оказывать сопротивление Красной Армии, был обнаружен в 1943 году среди погибших в Катыни. С другой стороны, командир полка пограничных войск «Подолье» полковник Марцели Котарба, который первый встретил огнем наступающие части противника и до полудня 17-го сентября сдерживал их продвижение по направлению к ставке Главнокомандующего, сумел пробиться на запад и тем самым уцелеть. Генерал Вильгельм Орлик-Рюкеманн, командующий погранвойсками в районе Полесья и Волыни, в течение 13 дней, оказывая сопротивление Красной Армии, два раза вступал в тяжелые бои. Отступая со своими войсками на запад, он в районе Буга, уже на оккупированной немцами территории, расформировал свой корпус и спас от советского плена большую часть своих подчиненных. С группой офицеров, переодетый в гражданскую одежду, он пробился в Варшаву и стал участником Сопротивления. Трудно понять, почему, отказавшись от сопротивления, Генеральный штаб не отдал польским частям, которым угрожал «котел» Красной Армии, приказ расформироваться и, сбросив мундиры, уйти в подполье. Известны случаи, к сожалению, немногочисленные, когда польские офицеры в безнадежной ситуации уничтожали свои документы и меняли мундиры на любую гражданскую одежду. Эти люди в большинстве своем уцелели, в то время как другие, слепо выполнившие приказ Рыдза-Смиглого, попали в Козельск, Старобельск или Осташков. Согласно советским источникам, Красная Армия в сентябре 1939 года взяла в плен 230670 польских солдат и офицеров. Однако согласно другим источникам, в плен было взято около 130 тыс. польских солдат и офицеров[2]. Согласно третьим – около 180 тыс[3]. В результате массовых арестов на территории, оккупированной советскими войсками, число это возросло в последующие месяцы и достигло 250 тысяч человек, из них — 10 тысяч офицеров. Некоторые сержанты и офицеры не были захвачены в боях, а сами по наивности являлись в комендатуры Красной Армии. Сержантско-рядовой состав польской пехоты не особенно интересовал органы НКВД. Около 46 тысяч человек было освобождено, более 180 тысяч депортировано вглубь СССР. Некоторые из них покинули Советский Союз в рядах армии генерала Андерса в 1942 году, кое- кто попал в так называемую Польскую армию под командованием генерала Зигмунта Берлинга. Многие же погибли на советской территории, как и большинство из 1,2 миллиона депортированных в СССР польских граждан. Особое внимание органы НКВД уделили польскому офицерскому корпусу, состоявшему не только из кадровых военных, но преимущественно из офицеров запаса, представителей польской интеллигенции, мобилизованных в начале войны. Польские офицеры, этапированные вглубь России, были временно размещены в пересылках (октябрь 1939), число которых достигало 138. В ноябре 1939 года были созданы три больших лагеря военнопленных, куда перевели большинство сержантов и офицеров польской армии, а также должностных лиц спецслужб (однако не всех, так как часть из них сразу же исчезла в недрах тюрем НКВД). По сведениям некоторых источников, кроме польских офицеров, в Сибирь были депортированы еще 1,2 миллиона польских граждан. Козельск, Старобельск, Осташков Главный лагерь для военнопленных был создан в Козельске, находящемся на железнодорожной линии Смоленск-Тула, в 250 км. на юго-восток от Смоленска. Лагерь разместили на территории бывшего монастыря — в большой церкви, в прилегающих к ней постройках и в поселке небольших домиков- скитов, служивших некогда паломникам. В монастыре содержались офицеры, взятые в плен на немецкой территории, а в скитах — задержанные на советской. Раздел проводился последовательно, и контакты между двумя частями лагеря жестко ограничивались. Вначале Козельский лагерь насчитывал около пяти тысяч военнопленных, в период же его ликвидации (апрель 1940) — около 4,5 тысяч, так как часть пленных была уже вывезена в неизвестном направлении. В лагерь продолжали привозить новых пленных (не всегда военных) группами по 10 и больше человек. Среди заключенных была одна женщина: подпоручик-летчица, дочь генерала Юзефа Довбур-Мисьницкого. Немцам не было известно о факте ее пребывания в лагере, и поэтому, когда ее останки были обнаружены в катынских могилах, они столкнулись с загадкой: каким образом женщина оказалась среди убитых офицеров. В Козельском лагере находилось более двадцати профессоров высших учебных заведений, более трехсот врачей, несколько сот юристов, инженеров и учителей, более ста литераторов и журналистов (следует помнить, что большинство польских военнопленных в СССР, как это отмечалось выше, составляли офицеры запаса, мобилизованные в начале войны). Второй офицерский лагерь был создан в Старобельске, в восточной части Украины, на юго-восток от Харькова. И этот лагерь был размещен в монастырских постройках. Сюда привезли почти всех офицеров из района обороны Львова, взятых в плен вопреки акту о капитуляции, гарантировавшему им свободу. В Старобельске находилось около двадцати профессоров высших учебных заведений, около 400 врачей, несколько сот юристов и инженеров, около ста учителей, около 600 летчиков, многочисленные общественные деятели, группа литераторов и журналистов. В этот лагерь попали весь без исключения коллектив НИИ по борьбе с газами, почти весь коллектив института по вооружению Польской армии. Под конец своего существования лагерь насчитывал 3920 военнопленных. Самый крупный лагерь военнопленных, в котором находилось около 6500 человек, был создан в Осташкове, на юго-запад от Калинина (бывшая Тверь), на одном из островов озера Селигер. Как и в первых двух лагерях, пленных разместили в зданиях бывшего монастыря. В Осташковском лагере содержалось около 400 офицеров, все взятые в плен пограничники, жандармские чины, члены военных судов, группа католических священников, несколько тысяч полицейских, несколько сот сержантов и старшин. Тут же находилась и группа землевладельцев, вывезенных из восточных районов Польши. В сумме в лагерях находилось 14500-14800 пленных, две трети которых (около 8400) составляли офицеры, одну треть—интеллектуальная элита Польши: ученые, гуманитарии, инженеры, учителя, журналисты, литераторы, известные общественные деятели, около 800 врачей. Из общего числа 14500 уцелело только 449 человек. И если сегодня мы можем что-либо сказать о положении в этих трех лагерях, если нам известны точные сроки и методы их ликвидации, то только благодаря тому, что по необъяснимым причинам эти 449 человек избежали смерти. Большинству уцелевших удалось выбраться из СССР и рассказать правду о пережитом. Здесь будет уместно остановиться на одном принципиальном вопросе. До сегодняшнего дня в исторической литературе к жертвам Катыни из Козельского лагеря применяется термин «ликвидированные», в то время как жертвы Старобельска и Осташкова считаются «без вести пропавшими в России». Это абсурдное разграничение вызывает горечь и недоумение. Ведь узники Старобельского и Осташковского лагерей не затерялись во время прогулки по лесу или по горам. Они были ликвидированы в то же самое время, что и узники Козельска. И если по сей день не произведена эксгумация их останков, это отнюдь не означает, что убийцы не несут ответственности за эти 10 тысяч человеческих жизней. Наиболее полная информация собрана о событиях в Козельском лагере, хотя имеются основания полагать, что ситуация в Старобельске и Осташкове была такая же. Одновременно с прибытием военнопленных в лагеря (ноябрь 1939 г.) там начали работать особые следственные комиссии НКВД. Каждый узник подвергался допросу, иногда и многократному. Органы особенно интересовались политическими воззрениями пленных. На каждого узника было заведено личное дело. Интересно, что во время допросов пленных, родом из восточных областей Польши, следователи просто ошеломляли своей осведомленностью об их жизни и окружении. Свидетельствует это о том, что следственный аппарат работал с огромной нагрузкой, совершенно не соответствующей «составу преступления» подследственных. В работу была вовлечена целая армия энкаведистов, в Москву были отправлены тысячи личных дел. Можно предполагать, что эта трагическая документация и ныне хранится в архивах КГБ. «Сбор материала» в лагере проводился людьми различного интеллекта, однако, по словам уцелевших, несмотря на атмосферу принуждения и морального давления, все происходило без особой жестокости. Методы допросов порождали у заключенных надежду, что, может быть, их или обменяют, или куда-нибудь переселят. Отсюда-то и возникали иллюзорные надежды, о которых речь пойдет ниже. Следствием руководил иногда появлявшийся в Козельске некто Зарубин, чин НКВД с высоким званием комбрига (что соответствовало званию генерал- майора и что в НКВД, как правило, значило на одно-два звания выше, чем в сухопутных войсках). Главный свидетель катынского дела, профессор Станислав Свяневич (до войны экономист, доцент университета имени Стефана Батория в Вильнюсе, глубокий знаток советской и немецкой экономики, призванный в армию в чине поручика), отзывается о Зарубине довольно положительно. Зарубин, по мнению Свяневича, был человеком культурным, хорошо воспитанным, легко вступающим в контакт, «он обладал манерами и лоском светского человека». Кажется, свободно владел французским и немецким, немного говорил по-английски. И, что удивительно для тогдашних советских условий, по собственному опыту знал некоторые страны Западной Европы. Зарубин допрашивал только избранных, тех, кто его интересовал своими интеллектуальными качествами или политическими взглядами. С подследственными он обращался с подчеркнутой вежливостью, так что некоторые, зная его высокое положение в иерархии лагерных властей, наивно принимали это обращение за знак положительных намерений советских властей по отношению к польским военнопленным. Следует добавить, что, несмотря на тяжелые лагерные условия, над узниками не издевались (хотя карцером каралось любое проявление религиозной практики). Питание было скромное, но в достаточном количестве. Личность комбрига Зарубина интриговала всех, вызывая и беспокойство и порождая одновременно надежды. Интересно, что проф. Свяневич (об особом отношении которого к советской России мы еще поговорим) пишет о Зарубине даже с оттенком некоторой симпатии. Эту симпатию следует считать иррациональной. Ведь среди ответственных за катынские злодеяния комбриг Зарубин безусловно был первым. Вероятно, не ему принадлежит окончательное решение вопроса, мы даже можем предполагать, что, благодаря его рекомендациям, некоторым удалось избежать расправы. Но его мнение о психологии, полезности или возможной опасности польских военнопленных для СССР сыграло основную роль в решении того человека, вероятно — самого Сталина, который распорядился ликвидировать почти всех. Следы Зарубина теряются в марте 1940 г. Потом его уже никто не видел и не слышал о нем. Может быть, он стал жертвой очередной сталинской чистки как опасный очевидец «окончательного решения» катынского вопроса. Нельзя, однако, исключить вероятность того, что он успешно пережил войну и Сталина и продолжает жить под другой фамилией. Можно даже предположить, что по заданию Кремля он под вымышленной фамилией орудовал в Польше в трагические для нее 1944-1956 гг. Судьба этого человека особенно заинтересует следствие, которое когда-нибудь займется выяснением обстоятельств катынской трагедии. Зарубин всегда был главным человеком в лагере. Только в марте 1940 г. его заменил не известный по фамилии полковник НКВД с «красным лицом мясника». В его обязанности входила организация транспортировки пленных; как правило, он сопровождал этапы до станции Гнездово, в 3-х км от катынского леса, а может быть, и до самого места казни. В лагерях, в особенности в Козельске и Старобельске, атмосфера была спокойная, даже оптимистическая. Как страшно слышать сегодня об этих иллюзиях и надеждах, царивших в трех лагерях, ведь офицеры могли и должны были знать о существовавших тогда в СССР методах решения подобных политических вопросов. Всеобщее оцепенение свидетельствует о своеобразном психозе, истоки которого необъяснимы. Во всяком случае, среди пленных не нашлось ни одного, кто смог бы предположить, что всех их ждет скорая и неминуемая гибель. Существовала надежда, что пленных передадут союзникам или, в худшем случае, выдадут немцам. Выдачу немцам пленные считали наихудшим вариантом и почти все требовали высылки их в одну из нейтральных стран. Польские генералы, находившиеся в лагере, требовали от своих подчиненных, чтобы те всячески протестовали в случае выдачи их немцам. Несчастные, они не понимали, что именно такое решение вопроса спасло бы жизнь многим из тех, кто был уничтожен весной 1940 года. Анализ некоторых источников дает основания полагать, что вопрос о выдаче немцам части военнопленных обсуждался в ходе переговоров между фашистской Германией и Советским Союзом (предположительно, речь шла о заключенных из Козельского «монастыря», а не о «скитовцах», живших ранее на территориях, присоединенных к СССР, поскольку они в любом случае были обречены). Как хорошо известно, в марте 1940 г. в Кракове и Закопане состоялось одно из последних совещаний между НКВД и Гестапо, где обсуждались совместные действия в борьбе с польским сопротивлением. Ликвидация трех лагерей военнопленных была проведена сразу же после этого совещания. Немцы, видимо, отказались принять польских военнопленных. Они не хотели перегружать свои «офлаги» еще несколькими тысячами польских офицеров. И, очевидно, это ускорило ликвидацию трех лагерей. Не последнее значение имел и чисто технический вопрос: нужно ведь было куда-то деть более 10 тысяч трупов. Зима 1939-40 г. выдалась исключительно суровая, землю сковало, копать массовые могилы в таких условиях было невозможно. Только в конце марта земля под Смоленском, Харьковом и Бологое достаточно оттаяла... В канун Рождества 1939 года пленным впервые было разрешено написать по одному письму родным. В Польшу посыпались письма (и в Генеральную губернию, и в районы, аннексированные Германией, и на территорию советской зоны оккупации), подтверждавшие и сам факт существования лагерей и дававшие представление об общей численности содержавшихся в них офицеров. Переписка с Польшей с перебоями продолжалась несколько месяцев. Некоторые семьи получили только рождественские письма и открытки на Пасху 1940 года, но бывали случаи и более регулярной переписки. Письма из Козельска, Старобельска и Осташкова информировали о месте нахождения этих лагерей (об этом свидетельствовали штемпели почтовых отправлений). Это должно было бы возбудить беспокойство разведки Союза вооруженной борьбы, которая, в свою очередь, должна бы была оказать давление на польское правительство, находившееся в то время во Франции. К сожалению, ничего не было предпринято. Переписка с лагерями в Козельске, Старобельске и Осташкове оборвалась внезапно, в апреле 1940 г. После этого адресаты в Польше не получили больше ни одного письма. До 21 июня 1941 г. приходили письма лишь от 448 пленных, переведенных, как мы расскажем ниже, в лагерь в Грязовце. 14 тысяч замолчали вдруг навсегда. Станислав Свяневич пишет: «В Козельске мне неоднократно доводилось слышать мнение, что нам де не угрожают ни расстрелы, ни принудительные каторжные работы, так как, хотя Советский Союз и не подписал Женевскую конвенцию об отношении к военнопленным, он вынужден считаться с мировым общественным мнением». Эти детские иллюзии люди сохраняли вплоть до момента посадки в товарные вагоны, в которых их везли на казнь. Узники трех лагерей не сомневались, что за их судьбой следит польское правительство во Франции и она (их судьба) вызывает серьезные международные трения, особенно из-за нажима на СССР со стороны правительств Великобритании и Франции. Увы, они глубоко заблуждались! С горечью можно констатировать: их судьба никого не трогала. Факт этот сильно компрометирует правительство генерала Сикорского, знавшего, что в руках Советского Союза оказалось около 10 тысяч польских офицеров. Никто не имеет права заявлять, что угрозу их жизни можно было не принимать всерьез. Всему миру было известно, что в СССР проводится массовое уничтожение людей. Трудно, конечно, судить о том, увенчались ли бы успехом попытки генерала Сикорского, направленные на освобождение этих пленных советскими войсками, хотя бы только с целью передачи их в немецкие лагеря вое топленных, где жизнь их не подвергалась бы непосредственной опасности. Бесспорен факт, что в этом направлении не было предпринято никаких шагов. А формальные предпосылки для этого существовали. 18 сентября 1939 года посол Вацлав Гжибовский, которому советское правительство отказало в аккредитации на основании того, что польское государство якобы «перестало существовать» (и это в то время, когда полумиллионная польская армия все еще оказывала сопротивление агрессорам), передал заботу о польских гражданах, находившихся на территории СССР, послу Великобритании, сэру Вильяму Сидсу. Однако польское правительство в изгнании не воспользовалось посредничеством Сидса. В начале 1940 года во Францию прибыли три офицера, сбежавшие из пересылки в Шепетовке, перед отправкой в Козельск или Старобельск. Проинформированный об их рассказах, генерал Сикорский поручил министерству иностранных дел просить, через американского посла при Польском правительстве в изгнании, помощи американского правительства (!) в облегчении участи польских военнопленных в СССР. Из этого, конечно, ничего не вышло. Больше никаких попыток не предпринималось. Правительство генерала Сикорского не использовало возможности прибегнуть к помощи Международного Красного Креста и нейтральных стран для передачи пленных Германии, наивно полагая, что в советских руках они в большей безопасности; кроме того, правительство категорически отвергало любые контакты с Берлином, даже жизненно важные для страны, считая их идущими вразрез с идеей «единства союзников». Сегодня такую точку зрения трудно даже комментировать, хотя следует отметить, что в исторической перспективе невежественность не может служить оправданием политикам, как заметил, в частности, Владислав Побуг- Малиновский. Предпочиталось в ожидании скорой победы над гитлеризмом оставить этих людей в советских лагерях. Однако ситуация изменилась коренным образом после падения Франции в июне 1940 года и потери польской армии на Западе. Лишь когда возникла проблема кадров для создания новой армии, уже на территории Великобритании, только тогда вспомнили о польских военнопленных в советских лагерях. Возникли даже наивные проекты создания польской армии на советской территории, в стране, все еще находившейся в дружественных отношениях с Германией. Один из таких проектов был даже представлен Черчиллю, но, к счастью, от него быстро отказались. Этот план был неактуален в любом случае: 97% офицерского корпуса будущей армии уже несколько недель лежали в могилах Катыни и в двух других местах массовых злодеяний. Смерть в лесу Ликвидация польских военнопленных из лагерей Козельска, Старобельска и Осташкова началась в декабре 1939 года. В сочельник из трех лагерей были вывезены капелланы (военные священники) всех религий, в общей сложности около 200 человек. Их убили в неизвестном месте или местах. В Козельске спастись удалось лишь одному капеллану, Яну Леону Зюлковскому, который случайно находился в лагерном карцере, что продлило ему жизнь почти на четыре месяца. 8 марта 1940 года из Козельска были увезены еще 14 офицеров, отобранных по каким-то неизвестным критериям. Из них уцелел только один человек, 13 же были казнены. Мы не знаем, кому принадлежит решение о ликвидации большинства военнопленных Козельска, Старобельска и Осташкова. Можно только предположить, что ни тогдашний шеф НКВД Лаврентий Берия, ни его заместитель Меркулов не могли сами рискнуть принять такое решение. Вероятно, на основании рапорта комбрига Зарубина решение было принято самим Сталиным. Это может подтвердить версия, предложенная Станиславом Миколайчиком, преемником Сикорского на посту главы польского правительства: «В начале 1940 года один из штабных офицеров Красной армии был послан к Сталину выяснить, как он намерен поступить с пленными польскими офицерами. Ранее планировалось передать их немцам в обмен на тридцать тысяч украинцев, которые были призваны в польскую армию, а в сентябре захвачены гитлеровцами в плен. Немцы сначала согласились на обмен, но в последний момент предложили Советам забрать украинцев и оставить у себя поляков. В Москве возникли слухи, что из украинских призывников и польских офицеров будут сформированы специальные части Красной армии. Тогда-то и был направлен в Кремль представитель Генштаба для выяснения вопроса. Он прибыл к Сталину и коротко объяснил проблему. Когда офицер закончил доклад, Сталин взял свой бланк и написал на нем одно-единственное слово: «Ликвидировать». Штабной офицер передал приказ по инстанции, но его смысл оказался не совсем понятен. Что Сталин имел в виду: ликвидацию лагерей или уничтожение узников? Приказ мог означать освобождение людей, перевод их в другие тюрьмы или использование на принудительных работах в системе ГУЛАГа. Он также мог означать расстрел или уничтожение пленных другим способом. Никто не знал наверняка точного смысла приказа, но никто и не посмел обратиться к Сталину за разъяснениями из-за огромного риска навлечь на себя безудержный гнев кремлевского самодержца. Откладывать решение, медлить тоже было рискованно. Это могло навлечь жестокую кару. Армейское начальство избрало самый безопасный для себя вариант, передав дело в НКВД. А для этого ведомства в приказе «хозяина» не было ничего двусмысленного. Он мог означать только одно: поляков надлежит уничтожить, причем немедленно. Именно так все и произошло. По мнению исследователей этой проблемы, Сталин не мог иметь в виду ничего другого.[4] Ликвидация трех лагерей началась и закончилась одновременно. Первый транспорт с пленными покинул Козельск 3 апреля, Осташково — 4 апреля, Старобельск — 5 апреля. Последние транспорты ушли из Козельска и Старобельска 12 мая, а из Осташкова — 16 мая. Интересно, что перед отправкой всем пленным делали прививки против брюшного тифа и холеры. Зачем, по сей день неизвестно. Свяневич усматривает в этом типичный беспорядок, присущий советскому бюрократическому аппарату, и многоступенчатость решений, когда одна инстанция НКВД не знала, что делает другая. Более вероятным кажется, что это была игра, целью которой было обмануть и успокоить бдительность пленных. Внушали же им неоднократно, что «они едут на Запад» (что, учитывая географическое положение Козельска, было даже правдой). Им выдали даже сухие пайки, завернутые (редкость в СССР) не в газетную бумагу, а в оберточную. Внимание пленных, однако, привлекло необычно жестокое поведение охраны. Выходя из лагерных ворот, пленные предчувствовали какой-то поворот в своей судьбе. Почти все они были убеждены в том, что их везут выдавать немцам. И поэтому старались, в меру своих скромных возможностей, привести в порядок мундиры, дабы достойно предстать перед лицом врага. Пленных погрузили в «столыпинские» вагоны без окон, только с маленькими вентиляционными устройствами под потолком. Поезда отходили в неизвестном направлении. В Козельске этапы насчитывали от 50 до 344 человек, в Старобельске от 18 до 240, в Осташкове, наверно, столько же. Если в Козельске и Старобельске на этап отправляли не ежедневно (случались даже перерывы; например, в Старобельске от 26 апреля до 2 мая, что можно, скорее всего, объяснить первомайскими праздниками), то в Осташкове, наиболее многочисленном лагере, этапы формировались каждый день, иногда бывало даже по три этапа в день. Обычно перед этапом, что было отмечено в Козельске, лагерные власти по телефону из Москвы получали списки военнопленных, подлежащих этапированию в этот день. Остающиеся в лагере пленные старались записывать фамилии вывезенных или хотя бы их количество, что впоследствии стало основой для составления списков, хотя и неполных, пропавших без вести. Тут мы подходим, вероятно, к самой большой тайне катынского преступления, поскольку не всех этапируемых направляли в места массового истребления. С точки зрения особых советских государственных интересов, тут была допущена непоправимая ошибка: власти сохранили жизнь нескольким стам очевидцам, давшим позднее правдивые показания. Если бы погибли все, мы бы располагали только результатами эксгумации останков в Катыни в 1943 году, данными, вполне достаточными для определения времени преступления, но мы бы не узнали обстоятельств, сопровождавших его. Почему некоторые пленные избежали расстрела — этого мы никогда не узнаем. До сегодняшнего дня никто не занимался анализом характера, мировоззрения, политических убеждений 449 человек, избежавших смерти. А ведь этот-то анализ мог стать основой для далеко идущих выводов. Расправы избежала горстка офицеров, проявившая готовность сотрудничать с советскими властями (группа крайне малочисленная); некоторые выдающиеся ученые и политики, а также люди, занимавшиеся до войны антисоветской деятельностью и связанные с польской разведкой и движением «Прометей». Эти последние могли быть еще использованы для дачи дополнительных показаний. Из общего числа в 90 эшелонов (из Козельска был отправлен 21 эшелон) 7 были направлены не к месту казни, а в небольшой лагерь, находившийся в Павлищевом бору, около Калуги, а оттуда всех уцелевших пленных вскоре перевели в Грязовец, под Вологдой. Казни избежали два этапа из Козельска (26 апреля и 12 мая 1940 года), два этапа из Старобельска (25 апреля и 12 мая), а также три этапа из Осташкова (29 апреля, 13 и 16 мая). Всего в Козельске отобрали 150+95=245 пленных, в Старобельске — 63 +16 = 79 (причем этих 63 пленных отобрали в последний момент из группы в 200 человек, 25 апреля); в Осташкове — 60+45+19=124; что в общей сложности дает цифру в 448 человек. Спаслось, однако, 449 человек. Судьба этого последнего из спасшихся заслуживает особо пристального внимания. Профессор Станислав Свяневич 29 апреля был направлен в восемнадцатый по счету этап из Козельска. Узников продержали в эшелоне более суток, причем охрана вела себя с необычайной жестокостью, резко контрастировавшей с относительно вежливым поведением лагерной охраны. 30 апреля 1940 года поезд остановили на какой-то станции. Это было Гнездово. В вагон вошел полковник НКВД с «багровым лицом» и по фамилии вызвал профессора Свяневича. Его тут же перевели в другой вагон и заперли в пустом купе. Проф. Свяневич взгромоздился на верхнюю полку, откуда через щелку мог видеть все, что происходило снаружи. Станцию оцепили вооруженные до зубов части войск НКВД. К дверям вагонов каждые полчаса подъезжал автобус, вмещавший до 30 человек (окна его были закрашены известкой). Автобус останавливался так, что пленные офицеры входили в него прямо из вагонов. Забрав очередную партию в 30 человек, автобус исчезал в близлежащем лесу. Так был «разгружен» весь состав. Только потом выяснилось, что станция Гнездово находилась в 3-х км. от места массового убийства пленных, в той части катынского леса, которую местные жители называют «Косогоры». На расстоянии 3-х км. пистолетные выстрелы уже не слышны. Профессор Свяневич говорит, что ему даже в голову не приходило, что офицеров неподалеку расстреливают. «Я не подозревал, что в тот момент, в сиянии такого весеннего дня расстреливали людей», — пишет он. В полдень «черный ворон» доставил профессора Свяневича в Смоленск, в городскую тюрьму, откуда его вскоре перевезли в Москву, на Лубянку. Все без исключения товарищи проф. Свяневича по несчастью из 18-го этапа 29 апреля 1940 года были найдены в катынских могилах. Почему же он единственный уцелел? Сам он не может дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Ведь, если по каким-то причинам ему предполагалось сохранить жизнь, в таком случае профессора надлежало включить в один из этапов, направленных в Павлищев бор. Может быть, произошла ошибка, может быть, в последний момент сообразили, что в эшелоне смертников находится человек, нужный Москве для дальнейшего следствия. Профессор Свяневич предполагает, что его собирались судить за его работу по изучению экономики СССР как опасного шпиона. Объяснение это нельзя считать удовлетворительным. При всей иррациональности многих смертных приговоров в СССР трудно предположить, что человека, особенно «отягощенного составом преступления» против СССР, не расстреляли только потому, что хотели посадить на скамью подсудимых. Разгадка, как кажется, кроется в другом: проф. Свяневич был крупным специалистом по тоталитарной экономике, прежде всего по экономике Третьего Рейха, и как таковой мог быть использован советской разведкой. Именно этим можно объяснить его неожиданное спасение после ошибочного включения в эшелон смертников. Тот факт, что Станислав Свяневич пережил советские тюрьмы и сегодня живет на Западе, имеет неоценимое значение для исследования Катынского дела. Он единственный польский офицер, который в момент катынского расстрела находился в 3-х км. от места преступления и собственными глазами видел, как людей уводили на казнь. Еще раз следует подчеркнуть: Станислав Свяневич — уникальный свидетель. Это имеет особенно важное значение, так как после войны (и даже в последние годы) стали распространяться фантастические слухи о спасении якобы одного-двух «недострелянных» в Катыни офицеров, которым ночью удалось выползти из не засыпанных еще могил и таким образом спастись. Эти слухи были использованы в сенсационных романах, вышедших в Англии и США. Даже в Польше можно встретить людей, утверждающих, что они «недострелянные» катынские жертвы. Все это можно считать или коммерческим использованием национальной трагедии, или просто мифоманией. Из польских военнопленных, попавших в катынский лес, никто не мог уцелеть и не уцелел. 448 уцелевших пребывали в Грязовце вплоть до начала Великой Отечественной войны 1941 года. В лагере стали возникать различные группы и группировки, выделилась даже небольшая группа офицеров во главе с полковником Зигмунтом Берлингом, готовая сотрудничать с советским правительством. Эту группу в октябре 1940 года перевезли в Москву. С ней разговаривали высшие чины НКВД во главе с Берией и Меркуловым. Отношения между СССР и фашистской Германией с конца 1939 года начали ухудшаться, и кремлевские вожди впервые стали допускать возможность войны с Гитлером. Группа польских офицеров, выразившая согласие на сотрудничество с СССР, должна была стать ядром небольшой польской армии, основой будущих коммунистических сил, главной задачей которых было бы создание в Польше режима, послушного воле Москвы. Как пишет в своих мемуарах Юзеф Чапский, ссылаясь на трех свидетелей беседы, имевшей место между Берией и Меркуловым с одной стороны и Берлингом с другой, (полковников Евстахия Горчинского, Леона Букоемского и Леона Тыжинского) будущий главнокомандующий польской армии в СССР потребовал, чтобы в создаваемую армию могли вступать все поляки, вне зависимости от их политических взглядов, добавив при этом: «Для этой армии у нас имеются замечательные кадры в лагерях Козельска и Старобельска». И тут Меркулов не сдержался: «Нет, эти — нет. По отношению к ним мы допустили большую ошибку». Отстраненный от командования так называемой польской армией еще в сентябре 1944 года, генерал Зигмунт Берлинг последующие 36 лет посвятил воспоминаниям о своей роли в формировании этой армии. Он опубликовал даже отрывки из своих мемуаров, но никогда ни словом не обмолвился о судьбе своих товарищей по оружию из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. В последний период своей жизни он отдавал себе отчет в том, что с его смертью исчезнет важный раздел истории уничтожения польских офицеров в СССР в 1940 году. И если публикация фактов, известных ему на основании личного опыта и общения с советскими офицерами, была невозможна в Польше, его прямым долгом было передать эту информацию на Запад. К сожалению, Зигмунт Берлинг ничего подобного не сделал. Он умер с совестью, отягощенной не только изменой чести польского мундира (вступив в чужую армию без согласия на то правительства в изгнании, он принял генеральское звание не от польских властей), но и, прежде всего, виной в умалчивании правды об обстоятельствах преступления, жертвами которого были его товарищи по оружию. Расследование и политика 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз, начав войну со своим вернейшим союзником и порвав тем самым пакт о ненападении. Война эта коренным образом изменила к худшему шансы на успех польского дела, так как обе англосаксонские державы (сначала Великобритания, а потом и США) вступили в союз с СССР. Тем не менее, такой поворот истории позволил предпринять шаги, направленные на освобождение из советских лагерей, тюрем и ссылок хотя бы части поляков. 30 июля генерал Сикорский подписал с советским послом Майским договор о сотрудничестве, «аннулирующий» (как это выяснилось позднее, только на словах) пакт Риббентропа-Молотова и дарующий полякам в СССР «амнистию». Опрометчиво принятая Сикорским именно такая формулировка договора вызвала негодование польской общественности и поставила в оппозицию к правительству в изгнании все те политические силы, которые считали, что термин «амнистия» приведет к зачислению польского населения в СССР в преступники, которым «даруется отпущение грехов». Был также заключен договор о создании на территории СССР польской армии. 4 августа генерал Владислав Андерс был освобожден из Лубянской тюрьмы и тотчас же приступил к формированию польских соединений из находившихся в заключении польских солдат и офицеров. Очень скоро всплыл вопрос о 14 тысячах польских военнопленных из лагерей Козельска, Старобельска и Осташкова. Преодолевая препятствия, чинимые советскими властями, в армию генерала Андерса со всех сторон страны стали стекаться поляки, в том числе офицеры, освобожденные из лагеря в Грязовце, где кроме 400 уцелевших в 1940 году находилась большая группа офицеров, интернированных в Литве, которые после захвата этой страны Советским Союзом в середине 1940 года также попали в Козельск, уже пустующий. На службу в армию Андерса не явился, однако, ни один офицер из трех лагерей. Бывший узник Старобельска ротмистр Юзеф Чапский получил приказ организовать приемный пункт для прибывающих в армию. Вскоре его главным заданием стало выяснение судьбы пленных Козельска, Старобельска и Осташкова. Никто о них ничего не знал. На основании показаний уцелевших были составлены списки с четырьмя тысячами имен польских офицеров, «без вести пропавших в СССР». Списки эти были представлены советским властям. В течение года, однако, ответа не последовало. Возникли предположения, что военнопленные содержатся где-то на Дальнем Севере, где их используют как рабочую силу и поэтому-то местные власти не спешат с их освобождением. Поползли слухи о пребывании польских военнопленных на Колыме и даже на Земле Франца-Иосифа. Осенью 1941 года советские власти настойчиво продолжали утверждать, что все польские пленные освобождены и ни в одном лагере их нет. Некоторым образом это соответствовало действительности: живых польских офицеров уже не было ни в одном лагере. Польские же власти не могли досчитаться 10 тысяч офицеров. Было просто невероятно, что из такого большого числа людей ни один не явился на польские приемные пункты. И удивительно: польскому посольству в Москве и командованию армией не пришло в голову, что этих людей уже нет в живых, а, следовательно, никакого ответа от советского правительства ожидать не следует. И все же слухи о массовом истреблении польских офицеров стали просачиваться, правда, в несколько искаженной советскими органами версии. Рассказывали о какой-то довольно большой группе офицеров, потопленных якобы на старых судах то ли в Белом море, то ли в Северном Ледовитом океане. Эту группу позднее стали связывать с пленными из лагеря в Осташкове. Конечно, ничего подобного не было, но это способствовало направлению поисков по ложному пути. Надежда найти хоть кого-нибудь не угасала. Все это не могло не повлиять на дальнейшее развитие польско-советских отношений и ставило под угрозу сам договор Сикорский-Майский. Один факт особенно важен. В течение всего 1941 года никто из членов советского правительства, не исключая и Сталина, ни словом не обмолвился о том, что польские военнопленные трех лагерей могли попасть в руки немцев во Страницы: 1, 2 |
|
© 2000 |
|