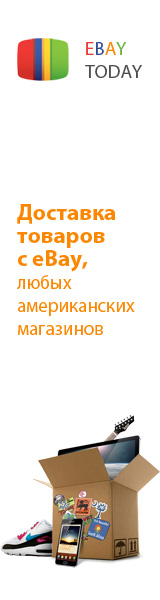|
РУБРИКИ |
Расцвет искусства в начале 20 века |
РЕКЛАМА |
||
|
Расцвет искусства в начале 20 векаважным орудием которой становятся философия искусство. В эпоху развития научного социализма и соединения его с рабочим движением воинствующий реакционный характер приобретает русская идеалистическая философия. Основным тезисом философских работ В. Розанова, А. Волынского, Вл. Соловьева и других становится отрицание возможности объективного познания мира. Диалектико-материалистическому пониманию закономерностей развития мира и человеческого сознания противопоставляется иррационализм, теория интуитивизма. Значительное влияние на формирование философских и эстетических концепций складывающегося «нового» направления в русской философии и эстетике конца века оказывают философские идеи А., Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, И. Канта и неокантианцев, модернизированные применительно к условиям нового времени. Особенностями исторического времени объясняется и возникновение в русском искусстве декадентства, идейно-художественного направления, и программно отказавшегося от традиций русского освободительного движения, философского материализма, реалистической эстетики. В искусстве этого направления складывался определенный тип сознания, отношения к миру и человеку, отразивший духовный кризис буржуазного общества упадок его культуры. В этом "смысле декадентство не только одно из направлении в искусстве или категория художественного стиля, но и опре-делённое мировоззрение в основе которого лежал агностицизм и релятивизм, идеалистическое представление о непознаваемости мира и закономерностей его развития, мировоззрение, противостоящее материалистическим принципам познания. Типическими чертами декадентства как художественного мировоззрения, свойственными всем течениям этого направления — от символизма до акмеизма и футуризма, — было игнорировано объективной реальности, неверие в объективность человеческого разума; единственным критерием познания признавался внутренний, духовный опыт, неуловимые ощущения и мистические прозрения. Ранние русские декаденты демонстративно заявили о разрыве всяких связей искусства с реальной действительностью. Тенденция к такому индивидуалистическому мировоззрению, ставшему впоследствии одной из основ русского символизма, выразилась уже в книге Н. Минского «При свете совести» (1890), в которой обосновывались социальные и этические позиции складывающегося идейно-художественного направления. В этическом учении Минского проявилось характерное для декадентов сочетание философского пессимизма с мечтой о сильном человеке — индивидуалисте типа «сверхчеловека» Ницше. Основная идея Минского — мысль об относительности всего сущего, всех нравственных понятий — добра, зла, лжи, правды. Истинным признавалось только чувство любви человека к самому себе. Исходя из этого, Минский формулировал первый и основной принцип «новой Морали», свое понимание отношения человека к миру и обществу: «Я создан так, что любить должен только себя, но эту любовь к себе я могу проявлять не иначе, как первенствуя над ближним своим, — таким же, как я, себялюбцем и жаждущим первенства...». «Каждый любит только себя». Стремление к первенству, по Минскому, — сила мистическая, сущность бытия. В применении к социальным отношениям эта идея Минского ведет к отрицанию социального гуманизма, холодному безразличию к судьбам человека, народа, общества. Более того, объявив стремление к насилию над ближним свойством человеческой души вообще, Минский доказывает правомерность социального неравенства людей, ибо мечта о равенстве, по его мнению, оказывается несовместимой с самой природой человека. Реакционный общественный смысл его моралистической теории раскрывает призыв, которым автор заканчивает книгу: «...Да будут они благословенны, страдания несовершенного мира! Да будет благословенно отсутствие любви, истины, свободы!», ибо перед лицом смерти нет неравенства. Этическое учение Минского явно зависимо от философии жизни Ницше, на которую впоследствии будут опираться теоретики и практики русского декадентского искусства, основной смысл которой Т. Манн определил так: «Это одно и то, же: жить и быть несправедливым». Интерес теоретиков «нового искусства» к Ницше был закономерен. Философия Ницше сложилась в последней трети XIX в., на переходном рубеже развития капитализма, и была идеологическим отображением глубочайшего кризиса буржуазной культуры. Она была обращена к ин-теллигенции, которую Ницше хотел отвлечь от освободительного движения эпохи, сделать духовным носителем идеологии, имеющей откровенно антисоциалистическукю направленность. Влияние ницшеанства на эти слои было очень значительным, ибо внутренняя апология общественного неравенства у Ницше развертывалась под прикрытием критики действительных пороков и противоречий буржуазного общества, с которыми постоянно сталкивалась «критически мыслящая» личность. В истории буржуазной философии Ницше был основателем иррационализма, в частности волюнтаризма — теории, оспаривающей возможность интеллектуального постижения реального мира и социальной действительности, утверждающей примат воли в иерархии сущностных жизненных сил. Мировоззренческим стержнем его философской системы был миф о «воле к власти». Ницше трактовал мир как становление, в котором нет никакой пребывающей субстанции, как «стремление к превосходству» и из этих устремлений выводил «высший закон» бытия — бытия «космического». По Ницше, «воля к власти» пронизывает все мироздание. Методологический принцип его философии состоял в теоретическом доказательстве предопределенности господства и подчинения, т. е. в конечном счёте в оправдании тех общественных отношений, которые базировались на этом противоречии. Предопределенность всего сущего в философии Ницше выражалась в формуле «вечного возвращения». Становление, лишенное какого бы то ни было материального содержания, — это, по Ницше, бесконечная цепь различных - комбинаций «воли к власти» бессмысленная игра сил, но выраженная в ограниченном числе повторяющихся сочетаний. В силу этого образуется кольцо вечного возврата «того же самого». Так как мир не имеет ни смысла, ни цели, человечество обречено на вырождение, если не будет спасено неким новым актом творчества, не «преодолеет» себя и не выдвинет некоего «сверхчеловека», который укажет людям смысл и цель существования. Человек для него лишь бесформенный материал, «простой камень, который нуждается в резчике». «Сверхчеловек» Ницше должен ознаменовать высшее осуществление «воли к власти», явиться новым творцом и созидателем мира, сформировать «скрижали ценностей», определяющих характер эпохи. На этом теоретическом постулате «воли к власти» строилась этика и эстетика Ницше, его учение о социальной иерархии, базировалось отношение к демократии. Сходство общественно-идеологической ситуации в русской жизни в конце века с общественно-идеологическими процессами европейской жизни, породившими ницшеанство, объясняет тот обостренный интерес к этике и эстетике Ницше, который свойствен русской декадентской культуре. Минскому, как и другим теоретикам русского декадентского искусства, были близки исходные позиции ницшеанской философии: протест против разума, рассмотрение жизни как процесса иррационального, понятийно-неуловимого, объекта переживания! В опытах «переоценки "ценностей» русскому декадентству с самых первых этапов его формирования была близка и попытка Ницше в исходных теоретических установках отказаться от всех прогрессивных традиций предшествующей философской мысли. Книга Минского явилась первым «евангелием от декаданса», определившим философско-этическую платформу нового литературного направления. Это был отказ от этической тенденции, всегда присутствовавшей в любом произведении русской классической литературы, «эмансипация» от этики, погружение искусства только в сферу эстетическую. Развернутое обоснование философско-эстетических основ направления дано в брошюре Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», вышедшей в 1893 г. В работе Мережковского декадентство впервые пытается осознать себя как идейно-художественное направление, обладающее определенными мировоззренческими и эстетическими качествами. Мережковский утверждал, что современная русская литература находится на грани глубочайшего кризиса, к которому завела ее гражданская тёнденциозность. Идея общественного служения привела искусство в тупик. Упадок литературы он объяснял и общим «упадком художественного вкуса», который будто отмечен с 60-годов, под влиянием эстетических идей Чернышевского, Добролюбова, Писарева, начавшегося господства «художественного материализма». Основу же истинного искусства, говорил Мережковский, составляет вечное религиозное мистическое чувство. Но эта традиция искусства с развитием позитивизма прервалась, и только в 90-е годы литература проникается предчувствием «божественного идеализма», неутомимой потребностью «нового религиозного или философского примирения с непознаваемым». Мережковский обозначал три основных элемента будущей новой русской литературы: первый — мистическое содержание; второй — символизация: новая поэзия должна стать поэзией «символа», т. е. таким образным воплощением "мысли художника, когда любые сцены жизни «обнаруживают откровение божественной стороны нашего духа»; третий — «расширение художественной впечатлительности в духе изощренного импрессионизма». Еще более чётко формулировал основные социальные и эстетические установки нового художественного направления и понятие символизма критик- декадент А. Волынский (Флексер). Он считал, что декадентство явилось непосредственной реакцией искусства на материализм. В работе «Борьба за идеализм» (1900) Волынский писал, что «символизм есть сочетание в художественном изображении мира явлений с миром божества... жажда религии создала то новое направление, которое называется символизмом». В работах Минского, Мережковского, Волынского основные положения символистской теории искусства уже выражены с достаточной определенностью. Большую роль в популяризации идей символистов, их практическом воплощении сыграл журнал «Северный Вестник». К началу века признанным вождем и руководителем символистского движений в России становится В. Брюсов. Как теоретик символизма он выступает в середине 90-х годов. Эстетические взгляды Брюсова выразились во вступительных статьях к первым поэтическим сборникам «Русские символисты» (1894—1895), большинство стихов в которых принадлежало Брюсову, к его книгам «Chefs d’oeuvre» (1894—1896), «Me eum esse» (1896—1897), «Тetria Vegillia » (1898—1900) и в статьях о литературе и искусстве. Ранний Брюсов обосновал свою концепцию символизма, опираясь прежде всего на философию Канта и эстетические идеи А. Шопенгауэра, который, как и Ницше, оказал сильнейшее влияние на философию и эстетику символизма. Но, в отличие от Мережковского, Брюсов не сводил содержание искусства к мистике. Цель искусства он видел в выражении «движений души» поэта, тайн человеческого духа, личности художника. В статье «Ключи тайн» (1904), открывшей первый номер журнала символистов «Весы», Брюсов подводит итоги своим эстетическим исканиям этих лет. В «Ключах тайн» Брюсов отвергает и теорию утилитарного искусства, и теорию «искусства для искусства». Основной тезис статьи — в отрицании возможности любой эстетической теории решить вопрос о природе художественного творчества. Сущность мира непознаваема, считает Брюсов, следуя за Кантом. Научное познание его обусловлено нашей психофизиологической организацией. Мир изначально воспринимается нами как феномен, т. е. в формах и категориях, принятых нашим сознанием. Но сознание всегда обманывает нас, перенося свои свойства и закономерности на мир внешний. Мысль, разум, наука бессильны преодолеть этот барьер, ибо представления человека о сущности мира всегда заведомо неистинны. Это относится, по мысли Брюсова, и к любой теории искусства, которая может рассмотреть лишь отношения явлений, но не может проникнуть в сущность и природу искусства. Однако сущность мира все-таки может быть постигнута, но не рассудочно, а интуитивным путем... Развивая свою теорию искусства, Брюсов опирается на эстетическое учение Шопенгауэра. Он, как и все символисты, принял шопенгауэровское противопоставление интуитивного познания сущности мира познанию научному. Шопенгауэр считал, что рассудочное познание мира «имеет дело только со своими собственными представлениями». Человеческая личность тоже воспринимается нами как «представление». Одновременно она есть часть мира и «вещь в себе». Исследуя ее вне рассудочных форм и категорий, можно обнаружить, оказывается, в ней и сущность мира. Углубляясь в сущность личности, мы постигаем сущность мира; видимый же мир предстает перед нами как явление, тень сущностного. Сущность мира, таким образом, может быть познана лишь интуитивными методами искусства, в котором особое положение занимает музыка, так как она не только непосредственно отражает сущностные идеи мира, но и является объективизацией в нас «мировой воли». Эту метафизику искусства Брюсов воспринял у, Шопенгауэра. Выход из «ложности» научного познания он, как и Шопенгауэр, видел только в искусстве. «Эти просветы, — писал Брюсов, — те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Исконная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлевать эти мгновения прозрения, вдохновения». Разделив с Мережковским кантовское понимание задач искусства, воспринятое через призму учения Шопенгауэра об интуитивном познании мира, Брюсов, даже в период этих метафизических деклараций, не разделял идеи о мистическом как единственной содержательной реальности искусства. История русского литературного символизма начинается с двух литературных кружков, возникших почти одновременно — в Москве и Петербурге. На основе общего интереса к новой западной философии (Шопенгауэра, Ницше) и творчеству европейских символистов в Москве возникают декадентские студии стиховедения и поэтики. В. Брюсова, К. Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса, С. Полякова, ставшего впоследствии издателем центрального символистского органа журнала «Весы», и других объединяют резко выраженный индивидуализм, эстетизм, отрицание общественной значимости искусства. В Петербурге возникает другая' группа декадентов, философско-эстетические позиции которых определенно отличались от позиции московских литераторов. В эту группу входили 3. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Минский. Был близок л ним В. Розанов. Крайнему индивидуализму москвичей и их «чистому эстетизму» они противопоставили, опираясь на русскую идеалистическую философию, христианскую мистику, позже — идею «религиозной общественности». Символизм для них стал категорией мировоззрения, а не только литературной школой. Наметившиеся расхождения четко обнаружились уже в начале 900-х годов, когда в Петербурге начинает издаваться под фактическим руководством Мережковского «неохристианский» журнал «Новый путь» (1903—1904), объединивший философов, богословов и литераторов - «неохристиан». Обе группы русских символистов вскоре объединились и выступили как общее литературное направление. В конце века в Москве возникает издательство «Скорпион» (1899—1916). Начинает издаваться альманах «Северные цветы», литературным руководителем издательства к 1903 г. фактически становится Брюсов. Он ведет подготовительную работу по организации журнала символистов, в котором думает объединить всех деятелей «нового искусства». Журнал начал издаваться (с 1904 г. под символическим названием «Весы» (одно из созвездий Зодиака, расположенное по соседству с созвездием Скорпиона). «Весы» были близки современным европейским журналам, пропагандировавшим модернистское искусство. На страницах журнала печатался литературный и критико-библиографический материал.? Объектом ожесточенных теоретических нападок журнала, объединившего «шосковский» и «петербургский» символизм, стали уже давно определившиеся противники — материализм в философии, реализм и «тенденциозность» в искусстве. С этой позиции (самой резкой критике журнала подверглись писатели - реалисты, публиковавшие свои произведения в литературных сборниках «Знание», прежде всего М. Горький. Одновременно с Брюсовым на страницах журнала «Весы» выступает другой теоретик русского символизма — Вяч. Иванов. Его взгляды на искусство значительно отличались от брюсовских. Иванов развивал мысль о необходимости преодоления индивидуализма на почве «теургических воззрений». Идея религиозно понимаемой коллективной связи людей, «соборности», становится основной в его философских и эстетических статьях. Причем понятие «соборности» сочеталось у Вяч. Иванова с представлением о новой России, которая якобы стоит на пороге всенародной религиозной культуры. Поэтому и путь развития искусства, по Иванову, — в движении от индивидуализма и субъективизма к «национальной почве», к религиозно понимаемой народности. Тогда-то и возникнет некая всенародная религиозная культура, основой которой станет миф. Задача искусства, считает Иванов, в создании этой новой мифологии — в «мифотворчестве». Идеи декадентства проникают в 90-е годы не только в литературу, но и во все области русского искусства. Группа молодых художников, художественных критиков и литераторов объединяется в журнале «Мир Искусства» - (1899—1904). Символическое изображение орла на обложке журнала становится эмблемой объединения. Расшифровывая смысл этого символа, автор рисунка — художник Л. Бакст — писал: «Мир Искусства» «выше всего земного, у звезд, там он царит надменно, таинственно и одиноко, как орел на вершине снеговой...». Основные эстетические позиции «Мира Искусства» декларированы его редактором С. Дягилевым в статье «Сложные вопросы», которой открылся журнал. Искусство понималось как явление «надземное», как свободный и таинственный акт, совершающийся в глубинах духа художника. Субъективный мир художника — единственное содержание искусства. (К. Сомов в одном из писем к А. Бенуа говорил: «Весь мир вертится около моего «Я», и мне в сущности нет дела до того, что выходит за пределы этого «Я» и его узости» . Эстетическая система «мироискусников», как и литераторов-символистов этого времени, представляла собой причудливый сплав из элементов кантианской эстетики, ницшеанства, философии интуитивизма. Существенным было принципиальное отрицание связей искусства с реальной действительностью, интересами «большинства», «толпы» - «Творец, — писал Дягилев, — должен любить красоту и лишь с нею вести беседу во время нежного, таинственного проявления своей божественной природы». К началу 900-х годов устанавливаются связи «Мира Искусства» с журналом «Новый путь», ставящим проблемы религиозно-философского мистического миросозерцания. Но эти связи не стали прочными. 3. Гиппиус и Мережковский недаром постоянно указывали на линии раздела между мистическими установками «Нового пути» и «эстетизмом мироискусников». Мировоззрение и творчество художников «Мира Искусства» пронизывал прежде всего гедонистический сенсуализм, не совместимый с религиозной мистикой Мережковского. В отношении к наследию прошлого журнал отразил общую тенденцию «нового направления» в искусстве. «Мироискуссники» противопоставили себя передвижникам, всему демократическому искусству прошлого, революционно- демократической эстетике. Наиболее частыми и резкими в журнале были выступления против Чернышевского, его социологии и эстетических взглядов. Здесь идеологи «Мира Искусства» явно перекликались с теоретиками русского литературного декадентства. В «Истории русской живописи» (1901) А. Бенуа, одного из основателей «Мира Искусства», история русской демократической живописи трактовалась как процесс деградации искусства. Передвижники, утверждал Бенуа, изменили искусству ради «направления», общественной тенденциозности и стали жертвами «антихудожественной» общественной волны, подделываясь под вкусы «толпы». Дягилев, выступая против эстетической теории Добролюбова и Чернышевского, с сожалением писал: «Отсталость России в том, что эта теория (т. е. теория «чистого искусства». — А. С.) никогда не торжествовала явно и победоносно». В своих декларациях он призывал к активной борьбе с «обветшалым реализмом» классического искусства. Проблема художественного наследия, вопросы о традициях старой культуры решались «мироискусниками» крайне противоречиво.* Они то тосковали по «уходящей красоте прошлого», то требовали создания нового стиля, отрицали ренессанс и барокко и проявляли интерес к стилю старых северных русских церквей и импрессионизму Запада. Эти противоречия отразили эклектичность эстетической системы раннего русского декадентства. Однако в основе всех течений декадентского искусства конца XIX — начала XX в. — от раннего символизма до течений 10-х годов — лежали общие идейные посылки; определяющий пафос теорий и художественной практики декадентов — антиреализм. Именно так оценивал раннее декадентство В. Короленко. Назвав Ю. Балтрушайтиса модернистом, писатель добавляет: «Это тоже не вполне определенно, но если прибавить антиреалист, то кажется, это будет самая устойчивая точка...» Символизм 90-х годов, младосимволизм, акмеизм, кубофутуризм, эгофутуризм были течениями одного декадентского направления, между ними существовала глубокая внутренняя преемственность в основных философских и эстетических посылках, несмотря на их внешние расхождения и полемическую настроенность по отношению друг к другу. Философско-эстетические декларации теоретических статей, обосновывавших символизм, нашли отражение в художественной практике ранних символистов. В поэтических формулах Бальмонта, Сологуба, Гиппиус, Мережковского отрицается истинность реального мира, объявляемого лишь комплексом ощущений творца-художника: ...нет иного Бытия,, как только Я. (Ф. Сологуб. «Все во всем») Если мир — комплекс ощущений «Я», то он существует лишь постольку, поскольку существует воспринимающий его поэт. Этот субъективизм в его крайнем выражении вел к культу мгновенных, неповторимых, единичных, очень неустойчивых переживаний поэта, через которые лишь и возможно стихийное, интуитивное постижение сущности мира. От неустойчивости настроений субъекта зависит изменчивость мира, переживающего все метаморфозы личности творца, отражающего иррациональную изменчивость потока его настроений: Мы брошены в сказочный мир Какой-то могучей рукой. На тризну? На битву? На пир? Не знаю. Я вечно — другой. Я каждой минутой сожжен. Я в каждой измене — живу. (К. Бальмонт. «Мы брошены в сказочный мир...») Восприняв философию Ницше, утверждая иррационализм в противовес логическому познанию, ранние символисты органически восприняли и ницшеанское противопоставление светлого, логического, «аполлоновского» начала алогичности стихийной «дионисийской» дисгармонии. Противопоставление этих сторон жизни постоянно присутствует в философском и художественном сознании символистов, а утверждение интуитивных, стихийных начал определяет их. В «дионисийских», оргиастических проявлениях человеческой души, мигах страсти, болезненно-исступленной и созвучной смерти, виделись возможности приобщения к тайнам и сути мира. Таков источник «дионисийских» мотивов творчества раннего В. Брюсова, К. Бальмонта, М. Лохвицкой. Стилевой формой выражения сознания художника-индивидуалиста, отрешенного от всего внешнего и погруженного в прихотливую смену своих субъективных чувствований и настроений, становится на раннем этапе развития символизма импрессионизм. Именно в русле импрессионистической лирики начали свой творческий путь первые поэты русского символизма (В. Брюсов, К- Бальмонт). Особое значение в развитии русской импрессионистической поэзии имело творчество Иннокентия Федоровича Анненского (1856—1909) — поэта, драматурга, критика, переводчика. Анненский оказал влияние на всех крупных поэтов того времени — Брюсова, Блока, Ахматову, Пастернака, Маяковского своими поисками новых поэтических ритмов, поэтического слова. Символисты считали его зачинателем «новой» русской поэзии. Однако общественные и эстетические взгляды Анненского явно не укладывались в рамки символистской школы. В этом смысле творчество поэта может быть определено как явление предсимволизма. По своему пафосу, настроениям оно ближе творчеству поэтов конца XIX в. — Случевского, Фета. "Начав в 80-е годы с традиционных поэтических форм, пройдя через увлечение французскими парнасцами и «проклятыми», соприкасаясь в некоторых тенденциях с Бальмонтом и Сологубом, Аннёнский существенно опередил многих современников по итогам развития: «в «Кипарисовом ларце» оказалось много художественных находок, пригодившихся Ахматовой, Маяковскому, Пастернаку в их работе по Обновлению поэтической образности, ритмики, словаря» Творческая судьба Анненского необычна. Имя его в литературе до 900-х годов почти не было известно. «Тихие песни» — первый сборник его стихов, написанных в 80—90-е годы, появился в печати только в 1904 г. (сборник вышел под псевдонимом Ник. Т-о). Известность как поэт Анненский начинает приобретать в последний год своей жизни. Вторая, последняя книга его стихов «Кипарисовый ларец» вышла посмертно, в 1910 г. Блок улавливал в поэзии Анненского творческую близость. Брюсов сравнивал стихи Анненского со стихами Верлена. «Манера письма Анненского, — писал он, — резко импрессионистична; он все изображает не таким, каким он это знает, но таким, каким ему это кажется, притом кажется именно сейчас, в данный миг. Как последовательный импрессионист И. Аннёнский далеко уходит вперед не только от Фета, но и от Бальмонта; только у Верлена можно найти несколько стихотворений, равносильных в этом отношении стихам И. Анненского». Действительно, в истории русской литературы Аннёнский, может быть, самый последовательный поэт и критик-импрессионист. Литературное наследие Анненского невелико, но разнообразно. Он был поэтом, филологом-классиком, автором драм, в которых воссоздал, свободно их модернизируя, античные мифы-. («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия», «Фамира-кифаред»). В историю литературы Анненский вошел прежде всего как поэт. Мотивы лирики Анненского замкнуты в довольно узкой сфере настроений одиночества, тоски бытия. Поэтому столь часто в его стихах встречаются образы и картины увядания, сумерек, закатов. Блок отмечал в общем настроении поэзии Анненского смятенность души поэта, напрасно тоскующей по красоте. Для поэтического мира Анненского характерно постоянное противостояние мечты об одухотворении жизни, замкнутой в обывательской прозе быта, которая напоминает поэту что-то призрачное и кошмарное («Бессонные ночи»), грубой реальности, возвышенного низкому. Такой контраст формирует стилевую систему поэта, в которой стиль поэтически-изысканный соседствует с нарочитыми прозаизмами. Творчество Анненского не может быть введено только в рамки декадентского искусства. Воспитанный в среде революционного народничества, Аннёнский не противопоставлял задачи искусства задачам жизни, никогда не разделял концепций «чистого искусства». В его стихах звучала и тема гражданского гуманизма, сочувствия к обездоленным и оскорбленным жизнью, сострадания к несостоявшемуся счастью («Кулачишка», «Два паруса лодки одной», «В марте»). Но Анненский считал безысходным не только современный порядок жизни, — и это сближало его с декадентами, — он говорил о некоей извечной и неизбывной ее драме. Смятенное восприятие реальности сочеталось у него с абстрактно-трагическим восприятием бытия вообще. В этом были истоки противоречий поэтической мысли Анненского. При наличии некоторых общих мотивов поэзия Анненского существенно отлична от поэзии символистов. Его лирический герой — человек реального мира, это не сверхчеловек Бальмонта или раннего Брюсова. Личное переживание поэта лишено и экстатического, и мистического пафоса. Ему чужды самоцельные эксперименты над стихом и поэтическим языком, хотя среди поэтов начала века он был одним из крупнейших мастеров версификации. Стих Анненского имел особенность, отличавшую его от стиха символистов и привлекшую позже пристальное внимание поэтов-акмеистов: сочетание и в словаре, и в синтаксисе повышенно-эмоционального тона и тона разговорного, подчеркнуто- прозаического. Сквозь частное у поэта всегда просвечивало общее, но не в логическом проявлении, а в некоем внелогическом соположении. Этот поэтический прием будет воспринят у Анненского Анной Ахматовой. Поэзии Анненского свойственна камерная утонченность, замкнутость в личной психологической теме. Это поэзия намека, недоговоренности, намекающей детали. Но у Анненского нет намеков на двоемирие, свойст-, венной символистам двуплановости. Он лишь фиксирует мгновенные ощущения жизни, душевные движения человека, сиюминутное восприятие им окружающего и тем самым — психологические состояния героя. Я люблю замирание эхо После бешеной тройки в лесу, За сверканьем задорного смеха Я истомы люблю полосу. Зимним утром люблю надо мною Я лиловый разлив полутьмы, И, где солнце горело весною, Только розовый отблеск зимы... («Я люблю») Стихов с общественной темой у Анненского немного. И в них на первом плане все то же противоположение мечты о красоте и неприглядной реальности. Вершиной социальной темы в его поэзии стало известное стихотворение «Старые эстонки», которым поэт откликнулся на революционные события в Эстонии в 1905 г., выразив свой протест против казней революционеров и правительственной реакции. И. Анненский был наиболее характерным представителем импрессионистической критики в литературе начала века. В критических статьях, собранных в двух «Книгах отражений» (1906, 1908), он стремился вскрыть психологию творчества автора, особенности его духовной жизни, передать свое личное впечатление от произведения. Причем в этих критических работах более, может быть, нагляднее, чем в лирике, выразились демократические взгляды писателя, его общественные устремления. Как бы в противовес символистам Аннёнский не раз подчеркивает социальное значение искусства. С этой эстетической установкой была связана характерная черта его критических статей: Анненский стремился понять и показать общественный смысл и общественное значение произведения. Таковы его статьи о М. Горьком, Н. Гоголе, Л. Толстом, Ф. Достоевском. В основе общественной этики Анненского лежала этика сострадания, разрабатывая которую он опирался на Достоевского. К концу жизни меняется отношение Анненского к символизму: символизм кажется теперь поэту школой, исчерпавшей свое развитие; историко- литературное значение ее он видел лишь в том, что она выдвинула таких крупных поэтов, как К- Бальмонт и А. Блок («О современном лиризме», 1909). Как и И. Анненский к поэтам-предсимволистам можно отнести и Ивана Ивановича Коневского (Ореуса, 1877—1901), лирика которого всегда вызывала сочувствие символистов. В стихах Коневской добивался предельной отточенной музыкальности. Вся его поэзия, как писал Брюсов, «есть ожидание, предвкушение, вопрос: Куда ж несусь, дрожащий, обнаженный, Кружась как лист над омутом мирским? ...Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливается на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние, и силясь понять, что за бездна таится за мигом»129. Брюсов далее указывал на близость этого мироощущения художникам «новой» поэзии. Коневской опубликовал несколько статей о литературе и искусстве, объект и проблематика которых были также близки интересам поэтов и художников- символистов («Живопись Беклина», «Мистическое чувство в русской лирике»). Самым ярким выразителем импрессионистической стихии в раннем русском символизме был Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942), поэзия которого оказала огромное воздействие на русскую поэтическую культуру начала века. В течение десятилетия, вспоминал Брюсов, Бальмонт «нераздельно царил над русской поэзией». В 90-х годах вышли сборники его стихотворений: «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1897);.в 900-е годы, в период творческого взлета Бальмонта,—«Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903), «Только любовь» (1903). Вдали от Земли, беспокойной и мглистой, В пределах бездонной, немой чистоты, Я выстроил замок воздушно-лучистый, Воздушно-лучистый Дворец Красоты. Лирика Бальмонта была глубоко субъективистской и эстетизированной: Бальмонт был занят, по словам Блока, «исключительно самим собой», поэта влекли лишь мимолетные чувствования 'лирического «Я». И жизнь, и поэзия для Бальмонта — импровизация, непреднамеренная произвольная игра. В его поэзии впечатления внешнего мира прихотливо связываются только единством настроения, всякие логические связи между ними разорваны: Неясная радуга. Звезда отдаленная. Долина и облако. И грусть неизбежная... В стихотворении «Как я пишу стихи» (1903) Бальмонт так раскрывает природу творческого акта художника: Рождается внезапная строка, За ней встает немедленно другая, Мелькает третья, ей издалека Четвертая смеется, набегая. И пятая, и после, и потом, Откуда, сколько — я и сам не знаю, Но я не размышляю над стихом И право, никогда — не сочиняю. Каждое впечатление значимо и ценно для поэта само по себе, смена их определена какой-то внутренней, но логически необъяснимой ассоциативной связью. Ассоциация рождает и смену поэтических образов в стихах Бальмонта, которые неожиданно возникают один за другим; ею определяется структура целых поэтических циклов, в которых каждое стихотворение представляет лишь ассоциативную вариацию одной темы, даже одного настроения поэта. Впечатления от предмета, точнее — от его качества, субъективно воспринятого поэтом, являются читателю в лирике Бальмонта в многообразии эпитетов, сравнений, развернутых определений, метафоричности стиля. Сам предмет расплывается в многоцветности, нюансах, оттенках чувственного восприятия. В основе поэтики Бальмонта — философия возникшего и безвозвратно ушедшего неповторимого мгновения, в котором выразилось единственное и неповторимое душевное состояние художника. Бальмонт был самым субъективным поэтом раннего символизма. В отъединении от мира «как воплощения всего серого, пошлого, слабого, рабского, что противоречит истинной природе человека»131 и уединенности поэт видит высший закон творчества. В этом смысл его знаменитых поэтических деклараций: Я ненавижу человечество, Я от него бегу спеша. Мое единое отечество Моя пустынная душа. («Я ненавижу человечество») Или: Я не знаю мудрости, годной для других, Только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, Полные изменчивой радужной игры. («Я не знаю мудрости...») Суть такого импрессионизма в поэзии определил Брюсов, говоря о творчестве И. Анненского как стремлении художника все изобразить «не таким, как он это знает, но таким, каким ему это кажется, притом кажется именно сейчас, в данный миг». Этим отличались и переводы Бальмонтом песен древних народов, произведений Кальдерона и других европейских и восточных поэтов. О переводах Бальмонта остроумно сказал И. Эренбург: «Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, — так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса». Подчиняя все передаче оттенков ощущений, через которые раскрываются качества предмета, Бальмонт огромное значение придавал мелодике и музыкальной структуре стиха. Для поэтического стиля лирики Бальмонта характерно господство музыкального начала. «Стихия музыки» проявлялась у Бальмонта в изощренной звуковой организации стиха (аллитерации, ассонансы, внутренняя рифма, повторы), использований слова как «звукового комплекса», вне его понятийного значения. Но уже в начале 900-х годов «музыка» стиха Бальмонта начала застывать в найденных поэтом приемах звукописи. Бальмонт самоповторяется. Поэтические опыты принесли Бальмонту большую известность, вызвали к жизни целую школу подражателей. Хрестоматийными стали его_«Вечер. Взморье. Вздохи ветра. Величавый возглас волн...», «Камыши», «Влага» и другие откровенно звукоподражательные стихи. Но подчинив смысл поэзии музыке стиха, Бальмонт обеднил поэтический язык раз и навсегда найденным словарем, привычными словосочетаниями, характерными параллелизмами. «...Бальмонт, будучи по духу человеком декаданса, — пишет Вл. Орлов, — как поэт усвоил только часть пестрой декадентско-символической программы... творчество его выявляет лишь один лик поэзии русского символизма (явления сложного и многосоставного), а именно — импрессионистическую лирику». Многие стихотворения Бальмонта стали образцами импрессионистической лирики. Одним из лучших произведений Бальмонта раннего периода было его известное стихотворение «Лунный луч», в котором отражены и принципы композиционного построения, и характер музыкальной инструментовки его стихов. Я лунный луч, я друг влюбленных, Сменив вечернюю зарю, Я ночью ласково, горю Для всех, безумьем озаренных, Полуживых, неутоленных; Для всех тоскующих, влюбленных Я светом сказочным горю И о восторгах полусонных Невнятной речью говорю. Мой свет скользит, мой свет змеится, Но я тебе не изменю, Когда отдашься ты огню — Тому огню, что не дымится, Что в тесной комнате томится И всё сильней гореть стремится — Наперекор немому дню. Тебе, в чьем сердце страсть томится, Я никогда не изменю. Или популярное стихотворение «Влага», построенное на едином музыкальном вздохе, на одном звуке: С лодки скользнуло весло. Ласково млеет прохлада. «Милый! Мой милый!» — Светло, Сладко от беглого взгляда. Лебедь уплыл в полумглу, Вдаль, под луною белея. Ластятся волны к веслу, Ластится к влаге лился... Известность и славу Бальмонту принесли не первые его сборники, в которых поэт пел «песни сумерек и ночи но сборники, появившиеся на грани века,— «Горящие здания» и «Будем как солнце», в которых он звал к «свету, огню и победительному солнцу», к приятию стихии жизни, с ее правдой и ложью, добром и злом, красотой и уродством, гармонией дисгармоничности и утверждал эгоцентрическую свободу художника, который в приятии мира не знает запретов и ограничений. В импрессионистской лирике Бальмонта выразилась типично декадентская мировоззренческая теория. Лирическим героем поэта становится дерзкий стихийный гений, порывающийся за «пределы предельного», воинствующий эгоцентрист, которому чужды интересы «общего». Облики такого лирического героя отличаются удивительным разнообразием и множественностью. Но лияность, декларативно вместившая в тебя «весь мир», оказывается изолированной от него. Она погружена лишь в очень неглубокие «глубины» своей души. В этом — источник характерно противоречивых мотивов поэзии художника-декадента: свободное, солнечное приятие мира всегда осложнено ощущением тоскливого одиночества души, разорвавшей все связи с жизнью страны и народа. Погружаясь в глубины движений души, исследуя ее противоречия, Бальмонт ста л кивает прекрасное и уродливое, чудовищное и возвышение, разгадывая в дисгармонии личности противоречия мирового зла и добра. Этот круг тем был общим для русской декадентской поэзии конца века, испытывавшей влияние Ницше, поэзии Бодлера, Э. По. В период творческого подъема у Бальмонта появляется самая оригинальная тема, выделяющая его в поэзии раннего символизма, — тема животворящего Солнца, мощи и красоты солнечных весенних стихий, к которым художник чувствует свою причастность. Книгу «Будем как солнце» Бальмонт открывает эпиграфом из Анаксагора «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» и одним из лучших своих стихотворений: Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце И синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце И выси гор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море И пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре, Я властелин. Я победил холодное забвенье, Создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровенья, Всегда пою. Мою мечту страданья пробудили, Но я любим за то, Кто равен мне в моей певучей силе? Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, А если день погас, Я буду петь... Я буду петь о солнце В предсмертный час! Это стихотворение — лейтмотив всех вариантов своеобразно разрабатываемой Бальмонтом пантеистической темы. В последующих многочисленных книгах («Литургия красоты», 1905; «Злые чары», 1906; «Жар- птица», 1907) за исключением «Фейных сказок» (1905), по словам В. Брюсова, «одной из самых цельных книг Бальмонта»135, стало очевидно, что поэту, повторявшему самого себя, уже изменяет художественный вкус и чувство меры. А. Блок в 1909 г. в газете «Речь» вынес приговор новым книгам Бальмонта: «Это почти исключительно нелепый вздор, просто — галиматья... есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового поэта Бальмонта больше нет». В лирике эмигрантской поры Бальмонт не сказал ничего нового. Лучшие из его произведений этих лет посвящены России, ее народу, культуре, горькой судьбе человека, потерявшего навсегда родину. «...В целом, как явление поэтической культуры, лирика Бальмонта, столь далекая от жизни, борьбы и надежд народа, от больших исторических, социальных проблем, волновавших Россию, принадлежит прошлому. Бальмонт довел до предела импрессионистическую поэзию «настроений»... в творчестве Бальмонта эта поэзия оказалась исчерпанной»137. Своеобразно идеи и мотивы «нового» литературного течения выразились в творчестве Федора Содогуба (Федора Кузьмича Тетерникова" 1863 — 1927), известного поэта и прозаика, но природа его творческой индивидуальности резко отлична от бальмонтовской. Творчество Сологуба представляет особенный интерес потому, что в нем с наибольшей отчетливостью раскрываются особенности восприятия и обработки идейно-художественных традиций русской классики в литературе декаданса. Если граница познаваемого и непознаваемого в мире непреодолима человеческим сознанием, как утверждал Мережковский, то на гранях непостижимой мировой тайны бытия естественны настроения ужаса и мистического восторга человека перед нею. Выразителем этих настроений в |
|
© 2000 |
|