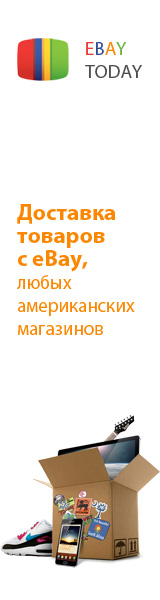|
РУБРИКИ |
Героизм и передвижничество |
РЕКЛАМА |
||
|
Героизм и передвижничествоГероизм и передвижничествоКЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУРСОВАЯ РАБОТА ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ Тема: «Героизм и подвижничество» Бишкек 1998 Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком- то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять в ней застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и сенсационных изделий. Есть от чего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России. И во всяком случае, теперь, после всего пережитого, невозможны уже как наивная, несколько прекраснодушная славянофильская вера, так и розовые утопии старого западничества. Революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности; не посчитавшись с этим историческим опытом, с историческими уроками революции, нельзя делать никакого утверждения о России, нельзя повторять задов ни славянофильских, ни западнических. После кризиса политического наступил и кризис духовный, требующий глубокого, сосредоточенного раздумья, самоуглубления, самопроверки, самокритики. Если русское общество действительно еще живо и жизнеспособно, если оно таит в себе семена будущего, то эта жизнеспособность должна проявиться прежде всего и больше всего в готовности и способности учиться у истории. Ибо история не есть лишь хронология, отсчитывающая чередование событий, она есть жизненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условие духовного роста, и ничто так не опасно, как мертвенная неподвижность умов и сердец, косный консерватизм, при котором довольствуются повторением задов или просто отмахиваются oт уроков жизни, в тайной надежде на новый "подъем настроения", стихийный, случайный, неосмысленный. Вдумываясь в пережитое нами за последние годы, нельзя видеть во всем этом историческую случайность или одну лишь игру стихийных сил. Здесь произнесен был исторический суд, была сделана оценка различным участникам исторической драмы, подведен итог целой исторической эпохи. "Освободительное движение" не привело к тем результатам, к которым должно было. привести, не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности (хотя и оставило росток для будущего -- Государственную Думу) и к подъему народного хозяйства не потому только, что оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными силами истории, -- нет, оно и потому еще не могло победить, что и само оказалось не на высоте своей задачи, само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. Русская революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание как самый общий итог пережитого. Следует ли замалчивать это сознание, и не лучше ли его высказать, чтобы задаться вопросом, отчего это так?.. Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская революция была интеллигентской. Духовное руководительство в ней принадлежало нашей интеллигенции, с ее мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают -- на то они и интеллигенты -- и будут, каждый в соответствии своему катехизису, называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоятельств (в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная война) и без наличности весьма серьезных жизненных интересов разных общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с места и вовлечь в состояние брожения, мы все-таки настаиваем, что весь идейный багаж, все духовное оборудование, вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами, был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, -- словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией. Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции, как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась в данный момент слаба и даже бессильна эта интеллигенция. Она есть то прорубленное Петром окно в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный, и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа, и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь устрашающе огромна ее историческая ответственность перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным! Вот почему для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волею, ибо, в противном случае, интеллигенция в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общественности, погубит Россию. Многие в России после революции, в качестве результата ее опыта, испытали острое разочарование в интеллигенции и ее исторической годности, в ее своеобразных неудачах увидали вместе с тем и несостоятельность интеллигенции. Революция обнажила, подчеркнула, усилила такие стороны ее духовного облика, которые ранее во всем их действительном значении угадывались лишь немногими (и прежде всего Достоевским), она оказалась как бы духовным зеркалом для всей России и особенно для ее интеллигенции. Замалчивать эти черты теперь было бы не только непозволительно, но и прямо преступно. Ибо на чем же и может основываться теперь вся наша надежда, как не на том, что годы общественного упадка окажутся вместе с тем и годами спасительного покаяния, в котором возродятся силы духовные и воспитаются новые люди, новые работники на русской ниве. Обновиться же Россия не может, не обновив (вместе с многим другим) прежде всего и свою интеллигенцию. И говорить об этом громко и открыто есть долг убеждения и патриотизма. Критическое отношение к некоторым сторонам духовного облика русской интеллигенции отнюдь не связано даже с каким-либо одним определенным мировоззрением, ей наиболее чуждым. Люди разных мировоззрений, далеких между собою, могут объединиться на таком отношении, и это лучше всего показывает, что для подобной самокритики пришло, действительно, время и она отвечает жизненной потребности хотя бы некоторой части самой же интеллигенции. Характер русской интеллигенции вообще складывался под влиянием двух основных факторов, внешнего и внутреннего. Первым было непрерывное и беспощадное давление полицейского пресса, способное расплющить, совершенно уничтожить более слабую духом группу, и то, что она сохранила жизнь и энергию и под этим прессом, свидетельствует, во всяком случае, о совершенно исключительном ее мужестве и жизнеспособности. Изолированность от жизни, в которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты "подпольной" психологии, и без того свойственные ее духовному облику, замораживало ее духовно, поддерживай и до известной степени оправдывая ее политический моноидеизм ("Гайнибалову клятву" борьбы с самодержавием) и затрудняя для нее возможность нормального духовного развития. Более благоприятная, внешняя обстановка для этого развития создается только теперь, и в этом, во всяком случае, нельзя не видеть духовного приобретения освободительного движения. Вторым, внутренним фактором, определяющим характер нашей интеллигенции, является ее особое мировоззрение и связанный с ним ее духовный склад. Характеристике, и критике этого мировоззрения всецело и будет посвящен этот очерк. Я не могу не видеть самой основной особенности .интеллигенции в ее отношении к религии. Нельзя понять также и основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания этого отношения интеллигенции к религии. Но и историческое будущее России также стягивается в решении вопроса, как самоопределится интеллигенция в отношении к религии, останется ли она в прежнем, мертвенном, состоянии или же в этой области нас ждет еще переворот, подлинная революция в умах и сердцах. Многократно указывалось (вслед за Достоевским), что в духовном облике русской интеллигенции имеются черты религиозности, иногда приближающиеся даже к христианской. Свойства эти воспитывались, прежде всего, ее внешними историческими судьбами: с одной стороны -- правительственными преследованиями, создававшими в ней самочувствие мученичества и исповедничества, с другой -- насильственной оторванностью от жизни, развивавшей мечтательность, иногда прекраснодушие, утопизм, вообще недостаточное чувство действительности. В связи с этим находится та ее черта, что ей остается психологически чуждым -- хотя, впрочем, может быть, только пока -- прочно сложившийся "мещанский" уклад жизни 3ападной Европы, сего повседневными добродетелями, с его трудовым интенсивным хозяйством, но и с его бескрылостью, ограниченностью. Классическое выражение духовного столкновения русского интеллигента с европейским мещанством мы имеем в сочинениях Герцена. Сродные настроения не раз выражались и в новейшей русской литературе. Законченность, прикрепленность к земле, духовная ползучесть этого "быта претит русскому интеллигенту, хотя мы все знаем, насколько ему надо учиться, по крайней мере технике жизни и труда, у западного человека. В свою очередь, и западной буржуазии отвратительна и непонятна эта бродячая Русь, эмигрантская вольница, питающаяся еще вдохновениями Стеньки Разина и Емельки Пугачева, хотя бы и переведенными на современный революционный жаргон, и в последние годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому, наибольшего напряжения. Если мы попробуем разложить эту "антибуржуазность" русской интеллигенции, то она окажется mixtum compositum составленным из очень различных элемент тов. Есть здесь и доля наследственного барства, свободного в ряде поколений от забот о хлебе насущном и вообще от будничной, "мещанской" стороны жизни. Есть значительная доза просто некультурности, непривычки к упорному, дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни. Но есть, несомненно, и некоторая, впрочем, может быть, и не столь большая, доза бессознательно- религиозного отвращения к духовному мещанству, к "царству от мира сего", с его успокоенным самодовольством. Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к опасению человечества -- если не от греха, то от страданий -- составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. Боль от дисгармонии жизни и стремление к ее преодолению отличают и наиболее крупных писателей-интеллигентов (Гл. Успенский, Гаршин). В этом стремлении к Грядущему Граду, в сравнении с которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности. Сколько раз во второй Государственной Думе в бурных речах атеистического левого "блока мне слышались -- странно сказать! -- отзвуки психологии православия, вдруг обнаруживалось влияние его духовной прививки. Вообще, духовными навыками, воспитанными Церковью, объясняется и не одна из лучших черт русской интеллигенции, которые она утрачивает по мере своего удаления от Церкви, например, некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский (оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик, который, однако же, постепенно утрачивают их исторические дети и внуки. Христианские черты, воспринятые иногда помимо ведома и желания, чрез посредство окружающей среды, из семьи, от няни, из духовной атмосферы, пропитанной церковностью, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Ввиду того, однако, что благодаря этому лишь затушевывается вся действительная противоположность христианского и интеллигентского душевного уклада, важно установить, что черты эти имеют наносный, заимствованный, в известном смысле атавистический характер и исчезают по мере ослабления прежних христианских навыков, при более полном обнаружении интеллигентского типа, проявившегося с наибольшею силою в дни революции и стряхнувшего с себя тогда и последние пережитки христианства. Русской интеллигенции, особенно в прежних поколениях, свойственно также чувство виновности пред народом, это своего рода "социальное покаяние", конечно, не перед Богом, но перед "народом" или "пролетариатом". Хотя эти чувства "кающегося дворянина" или "внеклассового интеллигента" по своему историческому происхождению тоже имеют некоторый социальный привкус барства, но и они накладывают отпечаток особой углубленности и страдания на. лицо интеллигенции. К этому надо еще присоединить ее жертвенность, эту неизменную готовность на всякие жертвы у лучших ее представителей и даже искание их. Какова бы ни была психология этой жертвенности, но и она укрепляет настроение неотмирности интеллигенции, которое делает ее облик столь чуждым, мещанству и придает ему черты особой религиозности. И тем не менее, несмотря, на вс± это; извecтнo, чтo нет интеллигенции более атеистической, чем русская. Атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической, и не только из образованного класса, но и из народа. И. так повелось изначала, еще с духовного отца русской интеллигенции Белинского. И как всякая общественная среда вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее особенностью, о которой даже не говорят, как бы признаком хорошего тона. Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания. О6 этом нет споров среди разных фракций, партий, "направлений", это все их объединяет. Этим пропитана насквозь, до дна, скудная интеллигентская культура, с ее газетами, журналами, направлениями, программами, нравами, предрассудками, подобно тому как дыханием окисляется кровь, распространяющаяся потом по всему организму. Нет более важного факта в истории русского просвещения, чем этот. И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы. Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений, именно, что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии, и притом разрешает их в отрицательном смысле; к этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно метафизике, тоже заранее отвергнутой и осужденной. Веру эту разделяют и ученые, и неученые, и старые, и молодые. Она усвояется в отроческом возрасте, который биографически наступает, конечно, для одних ранее, для других позже. В этом возрасте обыкновенно легкой даже естественно воспринимается отрицание религии, тотчас же заменяемой верою в науку, в прогресс. Наша интеллигенция, раз став на эту почву, в большинстве случаев всю жизнь так и остается при этой вере, считая эти вопросы уже достаточно разъясненными и окончательно порешенными, загипнотизированная всеобщим единодушием в этом мнении. Отроки становятся зрелыми мужами, иные из них приобретают серьезные научные знания, делаются видными специалистами, и в таком случае они бросают на чашку весов в пользу отрочески уверованного, догматически воспринятого на школьной скамье атеизма свой авторитет ученых специалистов, хотя бы в области этих вопросов они были нисколько не более авторитетны, нежели каждый мыслящий и чувствующий человек. Таким образом создается духовная атмосфера и в нашей высшей школе, где формируется подрастающая интеллигенция. И поразительно, сколь мало впечатления производили на русскую интеллигенцию люди глубокой образованности, ума, гения, когда они звали ее к религиозному углублению, к пробуждению от догматической спячки, как мало замечены были наши религиозные мыслители и писатели-славянофилы, Вл. Соловьев, Бухарев, кн. С. Трубецкой и др., как глуха оставалась наша интеллигенция к религиозной проповеди Достоевского и даже Л. Н. Толстого, несмотря на внешний культ его имени. В русском атеизме больше всего поражает его догматизм, то, можно сказать, религиозное легкомыслие, с которым он принимается. Ведь до последнего времени религиозной проблемы, во всей ее огромной и исключительной важности и жгучести, русское "образованное" общество просто не замечало и не понимало, религией же интересовалось вообще лишь постольку, поскольку это связывалось с политикой или же с проповедью атеизма. Поразительно невежество нашей интеллигенции в вопросах религии. Я говорю это не для обвинения, ибо это имеет, может быть, и достаточное историческое оправдание, но для диагноза ее духовного состояния. Наша интеллигенция по отношению к религии просто еще Не вышла из отроческого возраста, она еще не думала серьезно о религии и не дала себе сознательного религиозного самоопределения, она не жила еще религиозной мыслью и остается поэтому, строго говоря, Не выше религии, как думает о себе сама, но вне религии. Лучшим доказательством всему этому служит историческое происхождение русского атеизма. Он усвоен нами с Запада (недаром он и стал первым членом символа веры нашего "западничества"). Его мы приняли как последнее слово западной цивилизации, сначала в форме вольтерьянства и материализма французских энциклопедистов, затем атеистического социализма (Белинский), позднее материализма 60-х годов, позитивизма, фейербаховского гуманизма, в новейшее время экономического материализма и -- самые последние годы -- критицизма. На многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю, мы облюбовали только одну ветвь, не зная, не желая знать всех остальных, в полной уверенности, что мы прививаем себе самую "подлинную европейскую цивилизацию. Но европейская цивилизация имеет не только разнообразные плоды и многочисленные ветви, но и корни, питающие дерево и, до известной степени, обезвреживающие своими здоровыми соками многие ядовитые плоды. Поэтому даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им: противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации. Si duo idem dicunt, non est idem. На таком фундаменте не была построена еще ни одна культура. В настоящее время нередко забывают, что западноевропейская культура имеет религиозные корни, по крайней мере наполовину построена на религиозном фундаменте, заложенном средневековьем и реформацией. Каково бы ни было наше отношение к реформационной догматике и вообще к протестантизму, но нельзя отрицать, что реформация вызвала огромный религиозный подъем во всем Западном мире, не исключая и той его части, которая осталась верна католицизму, но тоже: была принуждена обновиться для борьбы с врагами. Новая личность европейского человека, в этом смысле, родилась в реформации (и это происхождение ее наложило на нее свой отпечаток), политическая свобода, свобода совести, права человека и гражданина были провозглашены также реформацией (в Англии); новейшими исследованиями выясняется также значение протестантизма, особенно в реформатстве, кальвинизме и пуританизме, и для хозяйственного развития, при выработке индивидуальностей, пригодных стать руководителями развивавшегося народного хозяйства. В протестантизме же преимущественно развивалась и новейшая наука, и особенно философия. И .все это развитие шло со строгой исторической преемственностью и постепенностью, без; трещин и обвалов. Культурная история западноевропейского мира представляет собою одно связное целое, в котором еще живы и свое необходимое место занимают и средние века, и реформационная эпоха, наряду, с веяниями нового времени. Уже в эпоху реформации обозначается и то духовное русло, которое оказалось определяющим для русской интеллигенции. Наряду с реформацией в гуманистическом ренессансе, возрождении классической древности возрождались и некоторые черты язычества. Параллельно с религиозным индивидуализмом реформации усиливался и неоязыческий индивидуализм, возвеличивавший натурального, невозрожденного человека. По этому воззрению, человек добр и прекрасен по своей природе, которая искажается лишь внешними условиями; достаточно восстановить естественное состояние человека, и этим будет все достигнуто. Здесь -- Корень разных естественноправовых теорий, а также и новейших учений о прогрессе и о всемогуществе одних внешних реформ для разрешения человеческой трагедии, а следовательно, и всего новейшего гуманизма и социализма. Внешняя, кажущаяся близость индивидуализма религиозного и языческого не устраняет их глубокого внутреннего различия, и поэтому мы наблюдаем в новейшей истории не только параллельное развитие, но и борьбу обоих этих течений. Усиление мотивов гуманистического индивидуализма в истории мысли знаменует эпоху так называемого "просветительства" ("Aufklarung") в XVII, XVIII, отчасти XIX веках. Просветительство делает наиболее радикальные отрицательные выводы из посылок гуманизма: в области религии, через посредство деизма, оно приходит к скептицизму и атеизму; в области философии, через рационализм и эмпиризм, -- к позитивизму и материализму; в области морали, чрез "естественную" мораль, -- к утилитаризму и гедонизму. Материалистический социализм тоже можно рассматривать как самый поздний и зрелый плод просветительства. Это направление, которое представляет собою отчасти продукт разложения реформации, но и само есть одно из разлагающих начал в духовной жизни Запада, весьма влиятельно в новейшей истории. Им вдохновлялась великая французская революция и большинство революций XIX века, и оно же, с другой стороны, дает духовную основу и для европейского мещанства, господство которого сменило пока собой героическую эпоху просветительства. Однако очень важно не забывать, что хотя лицо европейской земли все более искажается благодаря широко разливающейся в массах популярной философии просветительства и застывает в холоде мещанства, но в истории культуры просветительство никогда не играло и не играет исключительной или даже господствующей роли; Дерево европейской культуры и до сих пор, даже незримо для глаз, питается духовными соками старых религиозных корней. Этими корнями, этим здоровым историческим консерватизмом и поддерживается прочность этого дерева, хотя в той мере, в какой просветительство проникает в корни и ствол, и оно тоже начинает чахнуть и загнивать. Поэтому нельзя считать западноевропейскую цивилизацию безрелигиозной в ее исторической основе, хотя она, действительно, и становится все более таковой в сознании последних поколений. Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее крайними и резкими формами философии просветительства. В этом отборе, который произвела сама интеллигенция, в сущности, даже и не повинная западная цивилизация в ее органическом целом. В перспективе ее истории для русского интеллигента исчезает совершенно роль "мрачной" эпохи средневековья, всей реформационной эпохи с ее огромными духовными приобретениями, все развитие научной и философской мысли помимо крайнего просветительства. Вначале было варварство, а затем воссияла цивилизация, т. е. просветительство, материализм, атеизм, социализм, -- вот несложная философия истории среднего русского интеллигентства. Поэтому в борьбе за русскую культуру надо бороться, между прочим, даже и За более углубленное, исторически сознательное западничество. Отчего же так случилось, что наша интеллигенция усвоила себе с такою легкостью именно догматы просветительства? Для этого может быть указано много исторических причин, но в известной степени отбор этот был и свободным делом самой интеллигенции, за которое она постольку и ответственна перед родиной и историей. Во всяком случае, благодаря этому разрывается связь времен в русском просвещении, и этим разрывом Духовно больна наша родина. III Отбрасывая христианство и установляемые им нормы жизни, вместе с атеизмом или, лучше оказать, вместо атеизма наша интеллигенция воспринимает догматы религии человекобожества, в каком-либо из вариантов, выработанных западно- европейским просветительством, переходит в идолопоклонство этой религии. Основным догматом, свойственным всем ее вариантам, является вера в естественное совершенство человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, но, вместе с тем, механическое его понимание. Так как все зло объясняется внешним неустройством человеческого общежития и потому нет ни личной вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения заключается в преодолении этих внешних неустройств, конечно, внешними же реформами. Отрицая Провидение и какой-либо изначальный план, осуществляющийся в истории, человек ставит себя здесь на место Провидения и в себе видит своего спасителя. Этой самооценке не препятствует и явно противоречащее ей механическое, иногда грубо материалистическое понимание исторического процесса, которое сводит его к деятельности стихийных сил (как в экономическом материализме); человек остается все-таки единственным разумным, сознательным агентом, своим собственным провидением. Такое настроение на Западе, где оно явилось уже в эпоху культурного расцвета, почувствованной мощи человека, психологически окрашено чувством культурного самодовольства разбогатевшего буржуа. Хотя для религиозной оценки это самообожествление европейского мещанства -- одинаково как в социализме, так и индивидуализме -- представляется отвратительным самодовольством и духовным хищением, временным притуплением сознания, но на Западе это человекобожество, имевшее свой Sturm und Drang, давно уже стало (никто, впрочем, не скажет, надолго ли) ручным и спокойным, как и европейский социализм. Во всяком случае, оно бессильно пока расшатать (хотя с медленной неуклонностью и делает это) трудовые устои европейской культуры, духовное здоровье европейских народов. Вековая традиция и историческая дисциплина труда практически еще побеждают разлагающее влияние самообожения. Иначе в России, при происшедшем здесь разрыве связи исторических времен. Религия человекобожества и ее сущность -- самообожение в России были приняты не только с юношеским пылом, но и с отроческим неведением жизни и своих сил, получили почти горячечные формы. Вдохновляясь ею, интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть роль Провидения относительно своей родины. Она сознавала себя единственной носительницей света и европейской образованности в этой стране, где все, казалось ей, было охвачено непроглядной тьмой, все было столь варварским и ей чуждым. Она признала себя духовным ее опекуном и решила ее спасти, как понимала и как умела. Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм -- вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм самообожения. Вся экономия ее душевных сил основана на этом самочувствии. Изолированное положение интеллигента в стране, его оторванность от почвы, суровая историческая среда, отсутствие серьезных знаний и исторического опыта, все это взвинчивало психологию этого героизма. Интеллигент, особенно временами, впадал в состояние героического экстаза, с явно истерическим оттенком. Россия должна быть спасена, и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция вообще и даже имярек в частности, и помимо его нет спасителя и нет опасения. Ничто так не утверждает психологии героизма, как внешние преследования, гонения, борьба с ее перипетиями, опасность и даже погибель. И -- мы знаем -- русская история не скупилась на это, русская интеллигенция развивалась и росла в атмосфере непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться перед святыней страданий русской интеллигенции. Но и преклонение перед этими, страданиями в их необъятном прошлом и тяжелом настоящем, перед этим "крестом" вольным или невольным, не заставит молчать о том, что все-таки остается истиной, о чем нельзя молчать хотя бы во имя пиетета перед мартирологом интеллигенции. Итак, страдания и гонения больше всего канонизируют героя и в его собственных глазах, и для окружающих. И так как, вследствие печальных особенностей русской жизни, такая участь постигает его нередко уже в юном возрасте, то и самосознание это: тоже появляется рано, и дальнейшая жизнь тогда является лишь последовательным развитием в принятом направлении. В литературе и из собственных наблюдений каждый без труда найдет много примеров тому, как, с одной стороны полицейский режим калечит людей, лишая их возможности полезного труда, и как, с другой стороны, он содействует выработке особого духовного аристократизма, так сказать, патентованного героизма, у его жертв. Горько думать, как много отраженного влияния полицейского режима в психологии русского интеллигентского героизма, как велико было это влияние не на внешние только судьбы людей, но и на их души, на их мировоззрение. Во всяком случае, влияние западного просветительства, религии человекобожества и самообожения нашли в русских условиях жизни неожиданного, но могучего союзника. Если юный интеллигент -- скажем, студент или курсистка -- еще имеет сомнение в том, что он созрел уже для исторической миссии спасителя отечества, то признание этой зрелости со стороны министерства внутренних дел обычно устраняет и эти сомнения. Превращение русского юноши или вчерашнего обывателя в тип героический по внутренней работе, требующейся для этого, есть несложный, большею частью кратковременный процесс усвоения некоторых догматов религии человекобожества и quasi-научной "программы" какой-либо партии и затем соответствующая перемена собственного самочувствия, после которой сами собой вырастают героические котурны. В дальнейшем развитии страдания, озлобление вследствие жестокости властей, тяжелые жертвы, потери довершают выработку этого типа, которому тогда может быть свойственно что угодно, только уже не сомнения в своей миссии. Героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника (даже если он и вынужден ею ограничиваться), его мечта -- быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа. Для него необходим (конечно, в мечтаниях) не обеспеченный минимум, но героический максимум. Максимализм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, с такой поразительной ясностью обнаружившаяся в годину русской революции. Это -- не принадлежность какой-либо одной партии, нет -- это самая душа героизма, ибо герой вообще не мирится на малом. Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только им. Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признали идейной одержимости, самогипноза, он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Этим дается ответ и на тот исторический вопрос, почему в революции торжествовали самые крайние направления, причем непосредственные, задачи момента определялись все максимальнее и максимальнее (вплоть до осуществления социальной республики или анархии). От чего эти более крайние и явно безумные направления становились все сильнее и сильнее и, при общем полевении нашего трусливого и пассивного общества, легко подчиняющегося силе, оттесняло собою все более умеренное (достаточно вспомнить ненависть к "кадетам" со стороны "левого блока"). Каждый герой имеет свой способ спасения человечества, должен выработать свою для него программу. Обычно за таковую принимается одна из программ существующих политических партий или фракций, которые, не различаясь в своих целях (обычно они основаны на идеалах материалистического социализма или, в последнее время, еще и анархизма), разнятся в своих путях и средствах. Ошибочно было бы думать, чтобы эти программы политических партий психологически соответствовали тому, что они представляют собой у большинства парламентских партий западно-европейского мира; это есть нечто гораздо большее, это -- религиозное credo, самовернейший способ спасения человечества, идейный монолит, который можно только или принять, или отвергнуть. Во имя веры в программу лучшими представителями интеллигенции приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой, счастьем. Хотя программы эти обыкновенно объявляются еще и "научными", чем увеличивается их обаяние, но о степени действительной "научности" их лучше и не говорить, да и, во всяком случае, наиболее горячие их адепты могут быть, по степени своего развития и образованности, плохими судьями в этом вопросе. Хотя все чувствуют себя героями, одинаково призванными быть провидением и спасителями, но они не .сходятся в способах и путях этого спасения. И так как при программных разногласиях в действительности затрагиваются самые центральные струны души, то партийные раздоры становятся совершенно неустранимыми. Интеллигенция, страдающая "якобинизмом", стремящаяся к "захвату власти", к "диктатуре", во имя опасения народа, неизбежно разбивается и распыляется на враждующие между собою фракции, и это чувствуется тем острее, чем выше поднимается температура героизма. Нетерпимость и взаимные распри суть настолько известные черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь упомянуть. С интеллигентским движением происходит нечто вроде самоотравления. Из самого существа героизма вытекает, что он предполагает пассивный объект воздействия -- спасаемый народ или человечество, между тем герой -- личный или коллективный -- мыслится всегда лишь в единственном числе. Если же героев и героических средств оказывается несколько, то соперничество и рознь неизбежны, ибо невозможно несколько "диктатур" зараз. Героизм, как общераспространенное мироотношение, есть начало не собирающее, но разъединяющее, он создает не сотрудников, но соперников. Наша интеллигенция, поголовно почти стремящаяся к коллективизму, к возможной соборности человеческого существования, по своему укладу представляет собою нечто антисоборное, антиколлективистическое, ибо несет в себе разъединяющее начало героического самоутверждения. Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя, и при всем своем стремлении к демократизму интеллигенция есть лишь особая разновидность сословного аристократизма, надменно противопоставляющая себя "обывателям". Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости, и пренебрежение к инакомыслящим, и этот отвлеченный догматизм, в который отливается здесь всякое учение. Вследствие своего максимализма интеллигенция остается малодоступна и доводам исторического реализма и научного знания. Самый социализм остается для нее не собирательным понятием, обозначающим постепенное социально- экономическое преобразование, которое слагается из ряда частных и вполне конкретных реформ, не "историческим движением", но над-исторической "конечною целью" (по терминологии известного спора с Бернштейном), до которой надо совершить исторический прыжок актом интеллигентского героизма. Отсюда недостаток чувства исторической действительности и геометрическая прямолинейность суждений и оценок, пресловутая их "принципиальность". Кажется, ни одно слово не вылетает так часто из уст интеллигента, как это, он обо всем судит прежде всего "принципиально", т. е. на самом деле отвлеченно, не вникая в сложность действительности и тем самым нередко освобождая себя от трудности надлежащей оценки положения. Кому приходилось иметь дело с интеллигентами на работе, тому известно, как дорого обходится эта интеллигентская "принципиальная" непрактичность, приводящая иногда к оцеживанию комара и поглощению верблюда. Этот же ее максимализм составляет величайшее препятствие к поднятию ее образованности именно в тех вопросах, которые она считает своею специальностью, -- в вопросах социальных, политических. Ибо если внушить себе, что цель и способ движения уже установлены, и притом "научно", то, конечно, ослабевает интерес к изучению посредствующих, ближайших звеньев. Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении. Героизм стремится к спасению человечества своими силами и притом внешними средствами; отсюда исключительная оценка героических деяний, в максимальной степени воплощающих программу максимализма". Нужно что-то сдвинуть, совершить что-то свыше сил, отдать при этом самое дорогое, свою жизнь, -- такова заповедь героизма. Стать героем, а вместе и спасителем человечества можно героическим деянием, далеко выходящим за пределы обыденного долга. Эта мечта, живущая в интеллигентской душе, хотя выполнимая лишь для единиц, служит общим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оценок. Совершить такое деяние и необыкновенно трудно, ибо требует побороть сильнейшие инстинкты привязанности к жизни и страха, и необыкновенно просто, ибо для этого требуется волевое усилие на короткий сравнительно период времени, а подразумеваемые или ожидаемые результаты этого считаются так велики. Иногда стремление уйти из жизни вследствие неприспособленности к ней, бессилия нести жизненную тягость сливается до неразличимости с героическим самоотречением, так что невольно спрашиваешь себя: героизм это или самоубийство? Конечно, интеллигентские святцы могут назвать много таких героев, которые всю свою жизнь делали подвигом страдания и длительного волевого напряжения, однако, несмотря на различия, зависящие от силы отдельных индивидуальностей, общий тон здесь остается тот же. Очевидно, такое мироотношение гораздо более приспособлено к бурям истории, нежели к ее затишью, которое томит героев. Наибольшая возможность героических деяний, иррациональная "приподнятость настроения", экзальтированность, опьянение борьбой, создающее атмосферу некоторого героического авантюризма, -- все это есть родная стихия героизма. Поэтому так и велика сила революционного романтизма среди нашей интеллигенции, ее пресловутая "революционность". Не надо забывать, что понятие революции есть отрицательное, оно не имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь отрицанием ею разрушаемого, поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение. Но еще один из крупнейших русских интеллигентов, Бакунин, формулировал ту мысль, что дух разрушающий есть вместе с тем и дух созидающий, и эта вера есть основной нерв психологии героизма. Она упрощает задачу исторического строительства, ибо при таком понимании для него требуются прежде всего крепкие мускулы и нервы, темперамент и смелость, и, обозревая хронику русской революции, не раз вспоминаешь об этом упрощенном понимании... Психологии интеллигентского героизма больше всего импонируют такие общественные группы и внешние положения, при которых он наиболее естествен во всей последовательности прямолинейного максимализма. Самую благоприятную комбинацию этих условий представляет у нас учащаяся молодежь. Благодаря молодости с ее физиологией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных знаний, заменяемому пылкостью и самоуверенностью, благодаря привилегированности социального положения, не доходящей, однако, до буржуазной замкнутости западного студенчества, наша молодежь выражает с наибольшей полнотой тип героического максимализма. И если в христианстве старчество является естественным воплощением духовного опыта и руководительства, то относительно нашей интеллигенции такую роль естественно заняла учащаяся молодежь. Духовная пэдократия (господство детей) есть величайшее зло нашего общества, а вместе и симптоматическое проявление интеллигентского героизма, его основных черт, но в подчеркнутом и утрированном виде. Это уродливое соотношение, при котором оценки и мнения "учащейся молодежи" оказываются руководящими для старейших, перевертывает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой степени пагубно и для тех, и для других. Исторически эта духовная гегемония стоит в связи с той действительно передовой ролью, которую играла учащаяся молодежь с своими порывами в русской истории, психологически же это объясняется духовным складом интеллигенции, остающейся на всю жизнь -- в наиболее живучих и ярких своих представителях -- тою же учащеюся молодежью в своем мировоззрении. Отсюда то глубоко прискорбное и привычное равнодушие и, что гораздо хуже, молчаливое или даже открытое одобрение, с которым у нас смотрят, как наша молодежь без знаний, без опыта, но с зарядом интеллигентского героизма берется за серьезные, опасные по своим Страницы: 1, 2 |
|
© 2000 |
|