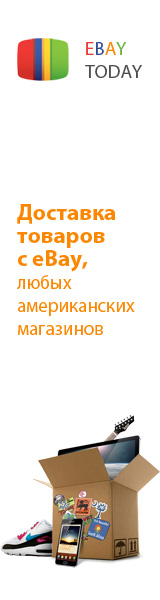|
РУБРИКИ |
Сантьяго |
РЕКЛАМА |
||
|
СантьягоСантьягоПуть формалистов к художественной прозеА. Разумова С недавних пор в обиход введено словосочетание «филологический роман»: так, например, названа публикация Н. Брагинской отрывков из дневников О. Фрейденберг (1991), таков же подзаголовок книги А. Гениса «Довлатов и окрестности» (1999)1. Наконец, Вл. Новиков взялся утвердить это понятие как термин, «канонизировать» его2. Как стихийное употребление необычного словосочетания, так и попытки его терминологического закрепления неслучайны: слова свидетельствуют о жанровых сдвигах, совершающихся в наши дни, и о горячем интересе к тем жанровым сдвигам, что совершались в «героическую эпоху» отечественной филологии — в 20-е годы ХХ века. Именно тогда заговорили о «промежуточных» и «непроявленных» жанрах3, именно тогда теория стала особенно вмешиваться в литературную практику, а филологические идеи — стремиться к немедленному воплощению в литературе. В этой статье речь пойдет о проекте 20-х годов, весьма актуальном в наши дни, — об опытах филологов «формальной школы» по созданию «нового романа» — формы, эквивалентной роману — по значению и влиянию на читателя. Концепт «непрямого пути» и его реализация в трудах формалистовОдин из важнейших концептов формалистической теории — концепт «непрямого пути». Преемственность в мире, описываемом формалистами, крайне затруднена, прямая связь приравнена к деградации: линии, которые они прослеживают, уходят вкось, традиции, которые они реконструируют, — «подземные и боковые». Известно, что в их терминологической системе особое значение имеют метафоры войны и революции. Так, выступления Пушкина против поздних карамзинистов Тынянов называет «гражданской войной», а попытку посредничества — попыткой примирить враждующие армии4. Известно, что и сами формалисты не признавали «мира» ни в литературе, ни в науке: «мирный» и «гладкий» для них — эпитеты с клеймом. Для нас же вот что важно: в трудах формалистов речь идет не только о «внешней» борьбе (по аналогии с классовой борьбой или биологической борьбой за существование — о «революции», «империализации», «экспансии», «разложении», «выпадении», «невязке», «разрыве», «деформации»), но и борьбе внутренней — борьбе писателя с самим собой. Формалисты понимали писательскую биографию как путь преодоления, изживания прежней манеры, отрицания прежней репутации. Так, эволюция, проделанная Пушкиным, названа «катастрофической»5, биография Некрасова не может состояться без «сдвига»6, а Толстой именно потому «величайший человек», что он «герой не на своем месте», «не помещается в своей собственной биографии», опровергает самого себя7. Вот и филологи «формальной школы» не хотели «помещаться в собственных биографиях». Им было мало статуса теоретиков и историков литературы: от размышлений об эволюции Пушкина и Толстого они естественным образом переходили к рефлексии по поводу собственной эволюции. Концепт «непрямого пути» они применяли к самим себе. Формалисты вовсе не чувствовали себя посторонними литературной практике, творчеству, они не только советовали, как делать «литературные вещи», а и сами стремились их делать. И не так уж ясно, что преобладало в их рецептах и прогнозах — пафос ученых, стремящихся воплотить в жизнь свои умозрения, свои идеи, или пафос писателей, теоретически «мотивирующих» свое творчество. «Непрямой путь» формалистов — это путь от научного к художественному творчеству. Логика формалистического творчества состоит в стремлении научное понятие (по Винокуру, «термин об образе»8) применить к практике. Так, в своей борьбе с современной им беллетристикой формалисты не хотят ограничиваться теоретизированием. Вместо теоретического ответа на вопрос, каким должен быть роман, Тынянов пишет романы. Помимо рассуждений о том, какие жанры должны прийти на место романа, Б. Эйхенбаум и В. Шкловский предлагают образцы подобных жанров. Установка формалистов — не просто описать литературную ситуацию, но и изменить ее. Вот Эйхенбаум прогнозирует будущее литературы: «…Настоящий писатель сейчас — ремесленник. Литературу надо заново найти — путь к ней лежит через области промежуточных и прикладных форм, не по большой дороге, а по тропинкам»9. И что же? Научный тезис: «…в одни эпохи журнал и самый редакционный быт имеют значение литературного факта…»; «…завтра [литература] — это толстый “литературно-общественный” журнал с редакцией и бухгалтерией»10 — тут же реализуется. Эйхенбаум сам становится таким «ремесленником», сам идет по таким «тропинкам». Он начинает играть в журнал, чтобы на практике осуществить «сдвиг» журнала как жанра — из «быта» в «литературу». В предисловии к книге «Мой временник» он сначала обосновывает новую форму — журнала одного автора — историческим прецедентом: «В XVIII веке некоторые писатели выпускали такого рода журналы, заполняя их собственными произведениями». Но эта мотивировка для Эйхенбаума слишком традиционна. Филолог, вслед за писателями, чье творчество он исследовал, должен начать с «быта», с «нуля» литературы. Почему он пишет «Временник»? Ради собственного удовольствия — таково объяснение Эйхенбаума, объяснение филолога, «сместившегося» в литературу: «Журнал — особый жанр, противостоящий альманаху, сборнику и т. д. Мне было приятно и интересно писать и собирать материал, воображая этот жанр. Пусть это — игра воображения. Жизнь без игры становится иногда слишком скучной»11. В этой игре главное слово — «скрещение». Литература скрещивается с филологией. Филологическое исследование становится игровым, с вызовом общепринятым взглядам и неожиданными ходами. Автобиографическая же беллетристика окрашивается филологией. Свою юность ученый видит на фоне цитаты, в борьбе с цитатой. Между ним, рассказчиком, и его материалом (воспоминаниями воронежского детства) лежит готовый литературный материал — эпизод из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (поездка Николая Ростова в Воронеж). Он следует за литературными ассоциациями — то играя сходством литературы и жизни («В городе Воронеже я, как и Николай Ростов, танцевал и ухаживал…»), то иронически отталкиваясь от литературы: «Толстому Воронеж понадобился для того, чтобы подготовить женитьбу Николая Ростова на княжне Марье… Мне Воронеж понадобился не для фабулы, а для детства»12. Тот же прием и в петербургских воспоминаниях — в эпизоде, описывающем наводнение. Игровой тезис: литература определяет жизнь («Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр»). Игровой антитезис: «К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась»13. Сюжет воспоминаний и — в целом — сюжет «Временника» — рождение литературы в борьбе с прежней «литературностью». Точно так же Шкловский реализует филологическую метафору «ход коня» — сначала применяет к себе («Наша изломанная дорога — дорога смелых, но что нам делать, когда у нас по два глаза и видим мы больше честных пешек по должности и одноверных королей»14), а затем сам начинает «ходить конем». «Ход коня» для Шкловского — «смещение» нелитературного жанра научной, критической статьи в «литературу». Современникам так и хотелось применить термины формалистов: «автоматизация — остранение», «литература — быт», «центр — периферия» — к филологическим трудам самого Шкловского. Вот что писал один из критиков по поводу его книги, которая так и называлась — «Ход коня»: «“Ход коня” — типичнейший и элементарнейший роман. Все основные элементы романа, восходящие к традициям Сервантеса, Стерна, Филдинга, Диккенса, — налицо Герой романа “Ход коня” — “я” Можно без преувеличения сказать, что облик “я” удался Шкловскому великолепно, и в русскую литературу он смело может войти сотоварищем Онегина, Печорина, Рудина и иже с ними, то есть именно ненавистным автору ненаучным эпохальным типом»15. М. Зощенко писал о литературности статей Шкловского совсем в другом — уже не ироническом — тоне. Характерно, что теоретические и критические статьи Шкловского рассматриваются Зощенко совершенно как беллетристика: стиль Шкловского таков, что писателю и в голову не приходит разграничить «литературу» и «не-литературу»: «Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же было трудно читать Карамзина, как сейчас мне трудно читать современного писателя старой литературной школы. Может быть, единственный человек, который понял это, — Виктор Шкловский. Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он “ввел воздух” в свои статьи. Стало удобно и легко читать. Я сделал то же самое. Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей»16. Литературная игра и литературный прием в критике ШкловскогоОсновной литературный принцип опоязовской критики — принцип противоречия. Верные своим теоретическим установкам, они реализуют этот принцип на уровне «поэтики» собственных статей. С одной стороны, они пишут с установкой на научность. Говоря о «литературном сегодня», они постоянно пользуются специальными терминами, тем самым демонстрируя читателям «научность» своего подхода. «Научность», претендующая не столько на истину, сколько на техническую продуктивность, — таков был сильный аргумент формалистов-критиков в литературной борьбе и спорах 20-х годов. На это в полемике с ленинградскими формалистами указывал Г. О. Винокур: «Обиднее всего, что при всех этих построениях сказывается все то же предельное неуважение к поэтическому искусству, которое иных наших критиков заставляет даже предписывать поэтам все по тем же “научным законам”, с помощью каких рецептов и “приемов” следует “делать” сюжетную композицию и как “пересекать сюжетные планы”, какую “установку” — на личность, экспрессивность или на тему — сюжетную, следует избирать для “мотивировки” стихотворения»17. Отсюда у них изобилие понятий, взятых из социологии и естественных наук, понятий обиходного языка, превращенных в термины, а также терминов-неологизмов. С другой стороны, формалисты пишут с установкой на художественность. В их критических и теоретических статьях агрессивный термин соседствует с не менее агрессивной метафорой, с тем, что мы привыкли связывать с литературной «практикой». Эти противоречия, эти «невязки» — столкновение термина и образа, логического аргумента и броской метафоры — все это воспринималось современниками как литературная игра. Путь формалистов к художественной прозе начинается с литературной игры в их научных статьях. Говоря о «литературности» опоязовской критики, прежде всего имеют в виду Шкловского18. Именно он «канонизировал» научную статью как литературный жанр. Первый признак «литературности»: в своих статьях Шкловский говорит не только о литературе и литераторах, но и о себе: «Но мало ли какие фамилии попадаются вместе. Вот еще одна: Виктор Шкловский»19. Личность Шкловского — в центре статей Шкловского. Здесь можно говорить об образе филолога в филологической статье, об исследователе как равноправном (а подчас и главном) герое исследования. Каждое предложение в статьях Шкловского — потенциально — ход в литературной игре. Из двух предложений может вырасти игровой эпизод. Возьмем, например, один из многочисленных рискованных параллелизмов «Гамбургского счета»: «Фрейд спрашивал своих детей: “Зачем ты ушибся?”Я спрашиваю Андрея Белого: “Зачем вам понадобилась антропософия?”»20Здесь Шкловский ведет многозначную игру с читателями. Прежде всего он выстраивает уравнение: отношение Шкловский-критик / писатель Андрей Белый равняется отношению врач Фрейд / ребенок-пациент. Критик лукаво провоцирует различные прочтения этого уравнения: как выпад против Андрея Белого («ушибся» — ошибся), как утверждение власти критика над писателем (равной власти врача над пациентом, взрослого над ребенком), наконец, как шутку, ни к чему не обязывающую. Эллипсис (отсутствие логической связки между двумя предложениями) обеспечивает Шкловскому «алиби»: он не выносит критический приговор, а играет. Но как только читатель включается в игру, следует программный тезис — очередной манифест формализма: «Антропософия нужна была как предлог для усиления метафорического ряда в русской прозе»21. Теория воспринимается на фоне игры, игра — на фоне теории. Сталкивая противоположные элементы, Шкловский держит читателя в напряжении и так убеждает его в своей правоте; не просто аргументирует — внушает. Так соседство научного и художественного стилей в пределах одной статьи создает необычный эффект. Воспринимаемые по контрасту с научными элементами, тем сильнее художественные элементы воздействовали на читателя. Другим основополагающим принципом формалистической игры является обнажение приема. В статьях Шкловского этот принцип становится композиционным. Они построены на демонстративных отступлениях, подчас это лирические отступления. Очень важна именно демонстративность этих отступлений: они дразнят, провоцируют читателя. Так, в книге «Розанов», вошедшей в книгу «Ход коня», Шкловский после вводных теоретических рассуждений прямо заявляет: «Теперь перейдем к Розанову для новых отступлений». Через две страницы Шкловский иронически настаивает на своем приеме, педалирует прием: «Я разрешаю себе, следуя канону романа XVIII века, отступление». И, не давая опомниться читателю, разворачивает отступление об отступлениях (введенное лукавой отбивкой: «Кстати, об отступлениях»22). Классификация отступлений, данная в этом отступлении, относится к роману XVIII века — но ведь в исследовании Шкловского речь идет не о романе XVIII века, а о Розанове. Чем же мотивировано это отступление? Это автометаописание; говоря о «далековатом» предмете (романах Стерна и Филдинга), Шкловский обосновывает собственную манеру письма: «Играя с нетерпением читателя, автор все время напоминает ему об оставленном герое, но не возвращается к нему после отступления, и само напоминание служит только для подновления ожидания»; «Третья роль отступлений состоит в том, что они служат для создания контраста»23. Как авторы романов отвлекаются от своих героев, так и Шкловский отвлекается от произведений и авторов, которым посвящена его статья. Он ведет постоянную игру с читателем: уходит от заявленной темы и внезапно возвращается к ней, проводит параллели по контрасту и опять-таки по контрасту вводит в исследовательские статьи мини-новеллы автобиографического содержания. Так критик добивается двойного эффекта: с одной стороны, убеждает читателя в верности своего тезиса, с другой стороны, завораживает его ловкостью литературного фокуса, утверждает себя в качестве героя собственной статьи, книги. В. В. Розанов и В. Б. Шкловский: подготовка филологической прозыНе случайно самые яркие примеры литературной игры Шкловского взяты из брошюры о Розанове. Свой «ход коня», свой путь к художественной прозе Шкловский сверял с творчеством Розанова, эксперимент Шкловского был продолжением эксперимента Розанова. Именно в статье о Розанове филолог формулирует принципиальные тезисы о настоящем и будущем литературы, дает свои самые смелые прогнозы. Место романа должен занять новый жанр, склеенный из дневников, писем, газетных статей и фельетонов. Образец такого жанра Шкловский находит в «Опавших листьях» Розанова: «Три разбираемых его книги представляют жанр совершенно новый, “измену” чрезвычайную. В эти книги вошли целые литературные, публицистические статьи, разбитые и перебивающие друг друга, биография Розанова, сцены из его жизни, фотографические карточки и т. д. Эти книги — не нечто совсем бесформенное, так как мы видим в них какое-то постоянство приема их сложения. Для меня эти книги являются новым жанром, более всего подобным роману пародийного типа, со слабо выраженной обрамляющей новеллой (главным сюжетом) и без комической окраски Книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, “сказаться без слов, без формы” — и книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму»24. Что нам особенно важно в этих положениях? То, что они могли определять и во многом определили не только научную, но и творческую позицию формалистов. Говоря о Розанове, Шкловский формулировал собственные задачи в литературе. Он и сам хотел предпринять «героическую попытку уйти из литературы», «создать новую литературу, новую форму». Эта форма виделась Шкловскому «подобной роману пародийного типа», «жанром-вместо-романа». Изучая творчество Розанова, Шкловский готовил почву для нового жанра — филологического романа. Сам Розанов прекрасно отдавал себе отчет в жанровой новизне своих «Опавших листьев». В этой изобретенной им форме он видел приговор традиционному роману, тот жанр, который должен сместить и заменить роман, всю предшествующую литературу: «Иногда кажется, что я преодолеваю всю литературу. И не оттого, что силен. Но “Господь со мной”. Это так. Так. Так»25. Розанов не раз возвращался к мысли о конце прежней литературы, о том, что именно в его сочинениях и положен ей предел: «…иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. И, может быть, это есть мое мировое “emploi” [призвание]… Явно во мне есть какое-то завершение литературы, литературности, ее существа, — как потребности отразить и выразить. Больше что же еще выражать? Паутины, вздохи, последнее уловимое»26. Что еще можно «выразить»? Что есть «последнее уловимое»? «Шумит ветер и несет листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства…»27 Собирая эти «полумысли» и «получувства», автор создает новый жанр (как бы «по ту сторону» литературы) — «11-ую или 12-ую литературную форму»28, особого рода человеческий документ. В этом документе все проникнуто принципом противоречия. Во-первых, это противоречия в отношениях с имплицитным читателем. В начале «Уединенного» Розанов демонстративно отказывается от диалога с читателем: «Ах, добрый читатель, я уже давно пишу “без читателя”, — просто потому, что нравится»29. А в другой книге заявляет: «Буду ли я читаем? Я думаю — вечно. Какая причина забыть? Никакой… И вечно кого-то утешу. И вечно кому-то пошепчу на ухо… Самое обыкновенное… Как я сидел и ковырял в носу. Это вечное… Хорошо»30. Во-вторых, это противоречие между «смирением» и писательским «эгоизмом». С одной стороны, самоуничижение, отказ признать за своим творчеством какое-либо значение, даже какой-либо смысл: «Что это, неужели я буду “читаем”?.. Для “самого” — не надо, и, м. быть, не следует». Но при этом в «Опавших листьях» всюду — «я»; «я» — в центре, все сводится к «я» (иногда даже с вызовом: «На мне и грязь хороша, п. ч. это — я»31). Розанов борется с «я» и «раздувает» его, проклинает себя и все же «всячески демонстрирует» себя. В-третьих, это противоречие между естественностью и литературностью. В книгах Розанова достигается предел естественности. В начале «Уединенного» Розанов настаивает: его мысли «“сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья — без всего постороннего… Просто — “душа живет”… то есть “жила”, “дохнула”… С давнего времени мне эти “нечаянные восклицания” почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листья собрать»32. Созданный им новый жанр автор противопоставляет традиционному роману как естественную форму искусственной. Но вместе с тем результат розановского эксперимента — это как раз превращение «не-литературы» в «литературу», тотальная эстетизация всего «мимолетного» — случайного, интимного, бытового — всего того, что прежде было «по ту сторону» словесности. «Он тащит в печать то, что печатать было не принято», «сделался писателем до мозга костей», «преодолев литературу, необычайно расширил возможности и формы литературы», — такова тенденция розановского творчества, отмеченная Синявским33. Розанов и сам прекрасно понимал это свое противоречие между «естественным» и «литературным»: «Литературу я чувствую как штаны»; «Несу литературу как гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение мое»34. Но снять это и другие противоречия он не хочет: в напряжении противоречий «живой жизни» — смысл его «Опавших листьев». Что же интересует Шкловского в наследии Розанова? Что филолог отмечает в том, о ком пишет? Что берет у него? Прежде всего для Шкловского важна идея «конца литературы». Говоря о закате, разложении литературы, Розанов воспринимал это как катастрофу (может быть, необходимую). Шкловский же принял эту идею с бодрым, революционным энтузиазмом: не конец, а обновление — отмена старого и отжившего. Он прямо говорит о «революции»: «Каждая новая литературная школа — это революция, нечто вроде появления нового класса». Затем — о «восстании»: «Вещи устраивают периодически восстания. В Лескове восстал “великий, могучий, правдивый” и всякий другой русский язык, отреченный, вычурный, язык мещанина и приживальщика. Восстание Розанова было восстанием более широким, — вещи, окружавшие его, потребовали ореола. Розанов дал им ореол и прославление»35. Противоречия Розанова — это противоречия страстной, ищущей истину мысли. Это спор с собой, перебивка себя, оговорка, игра оттенков. Так, рассуждая по поводу пресловутого еврейского вопроса, он заключает: «Вот еврейско-русский вопрос под углом одного из тысяч освещений»36. Тысяча освещений, тысяча возможных взглядов на один и тот же предмет, по одному и тому же вопросу, тысяча оттенков мысли, тысяча сомнений — вот что Розанов пытается учесть, ухватить в своих вольных, фрагментарных размышлениях. В этом его открытие. Шкловский же отмечает у Розанова только одно — прием. Всю «тысячу освещений» он сводит к приему. Судьба, биография — прием: «“Да” и “нет” существуют одновременно на одном листе, — факт биографический возведен в степень факта стилистического». Ужас — прием: «Самая конкретность ужаса Розанова есть литературный прием». Интимность тона, исповедальность — прием: «Мои слова о домашности Розанова совершенно не надо понимать в том смысле, что он исповедовался, изливал свою душу. Нет, он брал тон “исповеди” как прием». «Грозные вопросы морали» — прием: «Величины стали художественным материалом, добро и зло стали числителем и знаменателем дроби, и измерение этой дроби нулевое». Противоречия мысли — прием, а именно оксюморон: «Творчество и мировые слова, сказанные Розановым на фоне “1 р. 50 коп.”, и рассуждение о том, как закрывать вьюшки, — являются одним из прекраснейших примеров оксюморона»37. Во фрагментах Розанова Шкловский угадывает сюжет: «…новая тема не появляется для нас из пустоты, как в сборнике афоризмов, а подготовляется исподволь, и действующее лицо или положение продергиваются через сюжет. Эти перекликания тем и составляют в своем противопоставлении те нити, которые, появляясь и снова исчезая, создают сюжетную ткань произведения». Вывод Шкловского: «Таким образом, мы видим, что “три книги” Розанова представляют из себя некоторое композиционное единство типа романов, но без связывающей мотивировки»38. Итак, новый эффектный прием и сюжет нового типа — вот о чем пишет Шкловский, анализируя «Опавшие листья» Розанова. Открытия Розанова представляются ему чрезвычайно продуктивными. Шкловскому недостаточно цитирования Розанова: «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины. — Что это? — ремонт мостовой? — Нет, это “сочинения Розанова”. И по железным рельсам уверенно несется трамвай». Недостаточно и литературной игры в концовке брошюры о Розанове: «Нужно кончать работу. Я думаю кончить ее здесь. Можно было бы завязать конец бантиком, но я уверен, что старый канон сведенной статьи или лекции умер». Заканчивая писать о Розанове, Шкловский обещает применить открытия Розанова в собственном творчестве: «Я применяю это к себе»39. Цитата из Розанова: «ремонт мостовой» — превращается у Шкловского в реализованную метафору, обозначающую «современную ситуацию» — «слом» и «промежуток» в литературе. Прием Розанова представляется Шкловскому своего рода архимедовым рычагом, с помощью которого можно перевернуть литературу. Розановский новый жанр — «человеческий документ», в котором «скрестились» частное письмо, газета, дневниковая запись, разговорная реплика, — становится для Шкловского исходной точкой — той точкой, из которой он должен сделать свой собственный «ход коня». «Я применяю это к себе», — было сказано Шкловским в 1921 году. И в 1923 году он действительно применил найденное им у Розанова в своей прозе. Куда же направил Шкловский своего «коня»? Какое жанровое решение подсказал ему Розанов? В 1923 году Шкловский сочинил филологический роман «Zoo, или письма не о любви, или третья Элоиза». В пятом письме «Zoo» он прямо выводит свою повесть из Розанова (а также Ремизова и Андрея Белого): «Наше дело — созданье новых вещей Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из-за той же необходимости нового материала в искусстве». Жанрообразующие приемы и пафос филологического романа ШкловскогоШкловский с первых слов филологического романа подчеркивает: он не сочинил эту книгу — он ее «сделал». В стиле формалистов спросим: как сделан филологический роман? Основной жанрообразующий принцип «Zoo» — обнажение приема. У Розанова Шкловский научился «судьбу», «страх смерти» и «сердечную муку» превращать в прием. «Ход коня», сделанный Шкловским как филологом и писателем, — обострение и обнажение приема. Шкловский не просто пользуется приемом — он объявляет об этом, нередко тут же объясняет механику приема. Завеса с внутренней, скрытой писательской работы, с творческого процесса — снята. В предисловии автор заявляет: главное для него — сделать вещь. Вещь эта — роман в письмах. Для романа в письмах нужна мотивировка — любовь. «Я взял эту мотивировку в ее частном случае, — тут же объясняет автор-филолог, — письма пишутся любящим человеком женщине, у которой нет для него времени». Основная тема — любовь, но она уходит на второй план: «я ввел запрещение писать о любви». Какая же тема выходит на первый план? Эта тема — сам прием. Прием из средства литературы превращается в ее предмет; более того — прием персонифицируется, становится героем повести. Автор начинает с предупреждения: привычный материал литературы — сдвинут; описания — «метафоры любви», сюжетные события — «материал для метафор». Проводится аналогия: «Это обычный прием для эротических вещей: в них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический». В традиционной прозе в описаниях и событиях прием не ощущается. Здесь же описания и события «остраняются» — и литературный механизм становится ощутимым. Цель традиционной литературы — скрыть механику творчества, создать художественную иллюзию. В «Zoo» — противоположная цель: обнажить литературный механизм, вывернуть наизнанку «нутро» творчества, разрушить иллюзию. В современной постструктуралистской критике этот «ход коня» назвали бы «деконструкцией». Обычное соотношение: писатель «конструирует» — филолог «деконструирует» (соотношение: творчество — анализ) — здесь нарушено. Шкловский соединяет основной лирический сюжет с филологическими заметками, набросками к научным статьям; автор-филолог все время перебивает и поправляет автора-писателя, пишет (описывает или повествует) и тут же анализирует написанное. Подчас анализ предваряет описание и повествование. Кульминацией повести становится письмо десятое, в подзаголовке которого сказано: «по существу дела все письмо представляет из себя реализацию метафоры». Подразумеваемая метафора — «нахлынувшая любовь». Она соединяется с реальным событием — берлинским наводнением. И вот уже Шкловский дает слово персонифицированному приему: «Вода (тихим голосом). Одиннадцать футов, госпожи туфли! Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячемарковые бумажки видны на волнах. Мы — реализация метафоры. Скажите Але, что она снова на острове: ее дом опоясан ОПОЯЗом». Однако в последнем письме, «Заявлении во ВЦИК», завершающем книгу, и сама Аля, любимая женщина, названа реализацией метафоры. Реализация метафоры — в начале, в конце и в кульминационном эпизоде повести. Прием «опоясывает» книгу — «опоясывает ОПОЯЗом». Другой вид обнажения приема — автометаописание. Для обозначения нового жанра — филологического романа — Шкловский прибегает к метафорической аналогии. На что похож этот жанр? На цирк. Интерес к цирку как виду искусства весьма характерен для раннего Шкловского. Именно в статье о цирке он писал: «Прием есть то, что превращает внеэстетический материал, придавая ему форму, в художественное произведение». Цирк видится Шкловскому пределом искусства: в нем нет сюжета, ритма, красоты. Что же делает цирк искусством? «Голый» прием — преодоление трудности: «Затруднение — вот цирковой прием… Цирковая затрудненность сродни общим законам торможения и композиции». В «Zoo» метафорически сближаются цирк (или variete) и филологический текст: «Самое живое в современном искусстве — это сборник статей и театр-variete, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из момента соединения». Шкловский описывает цирковой прием: «В одном чешском театре мне пришлось видеть еще один прием, кажется, применяемый уже давно в цирках. Эксцентрик в конце программы показывает все номера, пародируя и разоблачая их». И тут же — демонстрируя литературную акробатику (вновь реализация метафоры), перескакивает к характеристике своей книги, частью которой этот пассаж и является. Связка сделана на «сходстве несходного»: «Более интересный случай представляет из себя книга, которую я сейчас пишу. Зовут ее “Zoo”, “Письма не о любви”, или “Третья Элоиза”; в ней отдельные моменты соединены тем, что все связано с историей любви человека к одной женщине. Эта книга — попытка уйти из рамок обыкновенного романа». Шкловский пытается не только «сделать» произведение, но и создать жанр. Процесс создания нового жанра становится сюжетом повести. Тот, кто выстраивает этот новый жанр от главы к главе (от письма к письму), и есть главный герой произведения. Главным героем филологического романа должен быть и является филолог. Для героя филологического романа вся жизнь неразрывно связана с филологией. Так, дружба для него — это дружба филологов одной школы; одиночество — разрыв связей с родной ему филологической средой: «У меня нет телефона, чтобы позвонить Борису Эйхенбауму. Тынянова тоже нет. Роман не занимается больше поэтикой» (в последнем предложении автор играет словами «Роман» и «поэтика» — и здесь филологический жест). Любимой женщине герой-филолог не может говорить о своей любви — он обречен говорить о своей «любви к слову» (в соответствии с этимологией — «филео», «логос»): «Она запрещает писать о любви. Он примиряется с этим и начинает рассказывать ей о русской литературе». Но любовь прорывается и сказывается в каждом слове героя — и вот уже филология есть средство обольщения: «Для него это [разговоры о литературе] способ распусканья хвоста». О своей любви герой говорит в филологических терминах — так филология совершает экспансию в частную жизнь, в сферу интимного: «Женщина материализует ошибку. Ошибка реализуется»; «Синтаксиса в жизни женщины почти нет»; «Наша любовь, наши браки, бегства — только мотивировки»; «…моя галлюцинация — только литературное явление». Автор подчеркивает термин, более того — сам подчеркивает «неприличность» термина в контексте любовного письма: «А в искусстве нужно местное, живое, дифференцированное (вот так слово для письма!)». Любимая героем и не любящая его женщина отвечает ему — говорит свое «нет» — тоже на филологическом языке: «Ты говоришь, что знаешь, как сделан “Дон Кихот”, но любовного письма ты сделать не можешь». Литературная игра в «Zoo» становится филологической. Пользуясь удачно найденной мотивировкой: «запрещено писать о любви», — Шкловский соединяет несоединимое — термин и лирический порыв, любовное письмо и филологическую статью (Л. Гинзбург: «…В “Zoo” Шкловский все время подпирает любовь профессией. Аля шествует под прикрытием формального метода…»40). Как вводятся филологические рассуждения, конспекты и фрагменты научных исследований? По контрасту — тотчас после исповедальных и лирических пассажей. По сходству — в игре цитат, аллюзий и пародических намеков. В сжатом, схематическом виде игровой «метод» Шкловского представлен в девятом письме. В нем говорится о том же, вокруг чего построен весь роман — в очередной раз, — о неразделенной любви. Вновь и вновь возвращаясь к этой теме, автор должен прибегать всякий раз к новым, неожиданным приемам. Сначала используется метафора: неразделенная любовь уподоблена воинской повинности — охране боевого поста. Вопрос героини: «Любишь?» — сравнивается с проверкой постов. В продолжение метафоры герой отвечает, пародируя устав: «Обязанности: любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан “Дон Кихот”». У читателя возникает вопрос: при чем здесь филологическая проблематика? Вместо ответа герой разворачивает конспект статьи о «Дон Кихоте». Мотивировка этого хода дается только намеком — когда герой переходит к следующей статье-вставке — об Андрее Белом. К этому моменту читательские ожидания должны быть предельно напряжены: какова же связь между любовью, «Дон Кихотом» и Андреем Белым? Мотивирующая связка — в сказанных между прочим словах: «…вставлю в своего “Дон Кихота” еще одну мудрую речь». Здесь — отсылка к сказкам «Тысячи и одной ночи», к прихотливой композиции этой книги, к одному из самых эффектных ее приемов — чередованию рамочных, обрамляющих и вставных сказок (помещение одной сказки внутри другой). Так первую метафору догоняет другая: солдат на посту превращается в Шахеризаду, рассказывающую сказки, чтобы не умереть. В этих прыжках от метафоры к метафоре, от аллюзии к аллюзии, от статьи к статье — есть и шутливая филологическая игра, и драма (служение солдата, смерть, грозящая Шахеризаде, тщетная верность влюбленного). Игра здесь — с опорой на Л. Стерна, одного из любимых писателей Шкловского. Связки между письмами, темами, абзацами, предложениями у Шкловского — подчеркнуто стернианские. Яркий пример этого филологического стернианства находим в предисловии к девятнадцатому письму, написанному Алей и перечеркнутому красным — в самом тексте: «Итак, дорогие друзья, не читайте этого письма. Я нарочно поэтому перечеркиваю его красным. Чтобы вы не ошиблись. Как композиционно понять это письмо? Ведь оно все же вставлено? Но, скажите, на какого черта вам нужна композиция? А если нужна — извольте! Для иронии произведения необходима двойная разгадка действия, обычно она дается понижающим способом, в “Евгении Онегине”, например, фразой: “А не пародия ли он?”. Я даю в своей книге вторую повышающую разгадку женщины, к которой писал, и вторую разгадку себя самого. Я — глухой. Если вы поверите в мое композиционное разъяснение, то вам придется поверить и в то, что я сам написал Алино письмо к себе. Я не советую верить… Впрочем, вы ничего не поймете, так как все выброшено в корректуре». В этом пассаже автор старательно создает эффект неопределенности: «Началась игра. Где любовь, где книга, я уже не знаю». Так есть ли в перечеркнутом письме композиционный смысл или нет? Сам ли себе герой написал Алино письмо или нет? Только ли здесь демонстрация литературного приема, занятия филологическими упражнениями — или все же выражение подлинной любви? Зачем эта филологическая игра с читателем? Чтобы получить возможность говорить серьезно и с пафосом. В своем ироническом сочинении Шкловский обороняется от иронии. «Она нужна — ирония, — объясняет он во вступлении, — она легчайший способ преодолеть трудность изображения вещи. Изобразить мир смешным легче всего». Но именно поэтому ирония автоматизируется, на иронии далеко не уедешь. В романе, где последовательно проведен принцип обнажения приема, Шкловский пытается преодолеть прием, прыгнуть выше приема. Так, о художнице Богуславской он неодобрительно замечает: «…сладость ее сознательна, — это прием, а не слезы». Цель Шкловского — прорваться к выражению высоких чувств. «Разрешите мне быть сентиментальным», — восклицает он. Кричит: «О, разлука, о тело ломимое, кровь проливаемая!» Но путь к пафосу возможен только через иронию и сознательный, иронически подчеркнутый прием. С их помощью автор проводит необходимую филологическую работу — готовит почву для исповеди и лирики. Ирония и пафос связаны диалектически. Почему же так необходима эта филологическая работа? Потому что приходится начинать с эмоционального нуля. Прежние способы выражения чувств — считает Шкловский — уже невозможны: «По существу говоря, все хорошие слова пребывают в обмороке. Запрещены цветы, луна, глаза и целые ряды слов, говорящих о том, что приятно видеть. А мне хотелось писать, как будто никогда не было литературы. Например, написать “Чуден Днепр при тихой погоде”. Не могу, ирония съедает слова». Шкловский сочувственно приводит слова Ремизова: «Не могу я больше начать роман: “Иван Иванович сидел за столом”»; комментирует: «Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы». Филологический роман Шкловского — это роман о любви в ситуации исчерпанности любовной темы, шире — в ситуации исчерпанности прежней культуры. В другую эпоху, но по сходному поводу сказаны известные слова У. Эко: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей “люблю тебя безумно”, потому что понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы — прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: “По выражению Лиала — люблю тебя безумно”. При этом он избегает деланной простоты и прямо высказывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, — то, что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты». Филологический роман Шкловского написан затем, чтобы вновь стал возможен разговор о любви. Первая книга Шкловского называлась «Воскрешение слова» (1914); цель «Zoo» — воскресить слова любви. Чтобы оживить «стершиеся» слова, необходимо пропустить их через филологическую игру. В двадцать третьем письме автор возвращается к разговору, затеянному еще во вступлении. Он вновь говорит о «запрещенных словах»: «Запрещены слова о цветах. Запрещена весна. Вообще, все хорошие слова пребывают в обмороке». Он не хочет с этим смириться: «Мне надоело умное и ирония Как мне хочется просто описывать предметы, как будто никогда не было литературы и поэтому можно писать литературно». Он рискует и пробует на вес «запрещенные слова»: «Я тоже хочу написать о “невянущем”, нет, лучше о “неувядающем”, венке». Он решается на лирический порыв: «Буду писать о венках Аля, я не могу удержать слов! Я люблю тебя. С восторгом, с цимбалами». «Цимбалы» здесь цитатны и пародийны — они возвращают героя к скепсису и иронии: «Это слова». Ироническая отбивка — не отказ от искреннего слова, а подготовка решающей попытки сказать «от души». Говорящий о любви подобен слаломисту — всюду препятствия, всюду общие места и штампы. Иронически отыграв ситуацию, герой получает право на праздничную и трагическую лексику любви. В отчаянном порыве герой признается женщине в любви: «Женщина, не допустившая меня до себя! Любимая! Пускай окружит моя книга твое имя, ляжет вокруг него белым широким, немеркнущим, невянущим, неувядающим венком». Так преодолевается противоречие между иронией и пафосом, любовью и «книгой», любовью и филологией. Проект Шкловского удался — по крайней мере так думали его современники. «Самой нежной книгой наших дней» назвала Л. Гинзбург «Zoo» в конце 20-х годов, а ее автора — «настоящим писателем» эпохи «обнажения приема»41. Список литературы1 См.: Брагинская Н. В. Филологический роман. Предварение к запискам Ольги Фрейденберг / Человек. 1991. № 3. С. 134; Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999. 2 Новиков Вл. Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия // Новиков Вл. Роман с языком. Три эссе. М.: Аграф, 2001. 3 О «промежуточном» жанре говорила Л. Гинзбург (Гинзбург Л. О документальной литературе и принципах построения характера // Вопросы литературы. 1970. № 7. С. 62); о «непроявленном» — А. Ахматова (комментарий И. Шайтанова: непроявленный — «то естьускользающий, не имеющий твердых границ и правил», — Шайта- нов И. «Непроявленный жанр», или литературные заметки о мемуарной форме // Вопросы литературы. 1979. № 2. С. 52). 4 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968. С. 70. 5 Там же. С. 165. 6 Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л.: Худ. лит., 1986. С. 346, 360. 7 Шкловский В. Энергия заблуждения. М.: Советский писатель, 1981. С. 48, 174. 8 Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук. М.: Лабиринт, 2000. С. 99. 9 Эйхенбаум Б. М. «Мой временник…» Художественная проза и избранные статьи 20—30-х годов. СПб.: Инапресс, 2001. С. 129. 10 Там же. С. 67, 71. 11 Эйхенбаум Б. М. Указ. соч. С. 26. 12 Там же. С. 34. 13 Там же. С. 38. 14 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М.: Советский писатель. С. 75. 15 Шкловский В. Б. Указ. соч. С. 491. 16 Зощенко М. М. О себе, о критиках и о своей работе // Михаил Зощенко: Статьи и материалы. Л., 1928. 17 Винокур Г. О. Указ. соч. С. 103. 18 Тем не менее в последнее время исследователи обратили внимание на «поэтику» научных статей не только Шкловского, Эйхенбаума, но и Тынянова, Р. Якобсона (см.: Левинтон Г. А. К поэтике Якобсона (поэтика филологического текста) // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1999; Гаспаров М. Л. Научность и художественность в творчестве Тынянова // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1990). 19 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 119. 20 Шкловский В. Б. Указ. соч. С. 193. 21 Там же. 22 Шкловский В. Б. Указ. соч. С. 121, 123. 23 Там же. С. 124. 24 Шкловский В. Б. Указ. соч. С. 125. 25 Розанов В. В. Уединенное. М.: Изд. политической литературы, 1990. С. 549. 26 Там же. С. 423. 27 Розанов В. В. Указ. соч. С. 195. 28 Синявский А. «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. М.: Захаров, 1999. 29 Розанов В. В. Указ. соч. С. 195. 30 Цит. по: Синявский А. Указ. соч. С. 115.31 Розанов В. В. Указ. соч. С. 352, 350. 32 Розанов В. В. Указ. соч. С. 195. 33 Синявский А. Указ. соч. С. 115—116. 34 Розанов В. В. Указ. соч. С 318, 382. 35 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 121, 126. 36 Розанов В. В. Указ. соч. С. 404. 37 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 126, 127, 128, 129. 38 Там же. С. 132. 39 Шкловский В. Б. Гамбургский счет. С. 139. 40 Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб., 2002. С. 43. 41 Гинзбург Л. Указ. соч. С. 65, 54. |
|
© 2000 |
|